Учебная литература по юридической психологии
ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯТашкент, 2025.
МИФЫ О МОНСТРАХ

Неизвестный автор
Каждый день сотрудникам правоохранительных органов приходится сталкиваться с фактами убийства людей. Каждое подобное дело трагично, но среди них встречаются такие, которые леденят душу своей жестокостью, дикостью и полной нелогичностью. Это — убийства, совершаемые серийными убийцами.
Да, их доля в общей преступности мизерна, но резонанс — колоссальный. Один-единственный маньяк способен парализовать жизнь целого города, посеять панику среди сотен тысяч людей и заставить даже самых стойких граждан проверять, закрыта ли дверь, не по три, а по пять раз подряд.
Относительная редкость серийных убийств, приправленная щедрой порцией беллетристики и кинематографических штампов, породила целую коллекцию мифов. Ведь откуда мы в основном черпаем знания о подобных преступлениях? Из фильмов, где убийца всегда носит чёрное пальто и говорит загадочным шёпотом. Из газетных статей, где каждая деталь непременно «шокирующая». Из книг, которые пестрят заголовками вроде «Исповедь монстра». Авторы любят приукрасить: там, где был обычный кухонный нож, они дорисуют мачете; там, где подозреваемый читал газету, они непременно упомянут «зловещий взгляд».
Неудивительно, что наши представления о серийных убийцах часто расходятся с реальностью. Более того, поток этой дезинформации не уменьшается — наоборот, он растёт. Сотни статей, десятки книг, оскароносные фильмы и сериалы подливают масла в огонь, каждый новый автор опирается не на факты, а на фантазии предыдущих. Получается замкнутый круг: один придумал миф, другой переписал, третий добавил пару «ужасных подробностей» — и вуаля, общественное мнение готово.
Да что там говорить, даже профессионалы, работающие с этими делами, порой становятся жертвами мифов. Влияние масс-медиа и культуры на сознание колоссально: иногда проще поверить сериалу, чем скучному отчёту криминалистов. Но наука не стоит на месте. Юридическая психология, криминология и криминалистика за последние десятилетия накопили огромный опыт в изучении серийных убийств. И сегодня специалисты уверены: мифы пора развенчивать. Потому что они мешают не только обычным гражданам спать спокойно, но и следователям — работать эффективно.
Не случайно несколько лет назад ФБР организовало специальный симпозиум, где всерьёз обсуждали не только методы поимки преступников, но и способы борьбы с ложными представлениями о них. С тех пор к делу подключились и учёные, и практики, и публикации. Словом, борьба идёт.
Попробуем и мы присоединиться к этому движению. Давайте вместе отделим реальность от кинематографического ужаса, факты — от мифов, истину — от страшилок. Иначе рискуем остаться в плену выдуманных монстров, тогда как настоящие могут оказаться совсем не такими «киногероями», как мы привыкли их себе представлять.
Миф первый: серийные убийцы психически больные люди

Как обычно нам показывают серийных убийц в кино, новостях и телевизионных шоу? Конечно же, это либо безумные психи с глазами навыкате, либо гении мирового зла, вроде доктора Ганнибала «Каннибала» Лектера, который умудрялся не только сочинять кулинарные рецепты «с изюминкой», но ещё и цитировать античных философов, пока за ним гонялись агенты ФБР.
Звучит эффектно, но правда в том, что реальность куда прозаичнее и менее кинематографична. Большинство серийных убийц не страдают тяжёлыми психическими заболеваниями в медицинском смысле. Они вовсе не пациенты психиатрических клиник, а «обычные» люди с антисоциальными расстройствами личности — чаще всего это психопатия или социопатия. И Международная классификация болезней (МКБ-10) такими диагнозами «психиатрическую палату» не пополняет.
Социопаты и психопаты относятся к так называемым диссоциальным расстройствам личности. Их поведение, мягко говоря, идёт вразрез с общественными нормами. Если большинство людей считают нормальным стоять в очереди в магазине, то для психопата очередь — это прекрасная возможность проверить терпение окружающих или устроить мини-скандал.
Характерные черты здесь очень красноречивы:
- абсолютное равнодушие к чувствам и правам других («эмпатия? не, не слышал»);
- патологическая безответственность и пренебрежение законами («правила созданы, чтобы их нарушать» — их жизненное кредо);
- удивительная лёгкость в завязывании контактов при полном отсутствии способности эти контакты поддерживать;
- полное отсутствие чувства вины («да, я это сделал — и что?»);
- склонность к агрессии, которая проявляется быстрее, чем успеет закипеть чайник.
И хотя эти два расстройства — социопатия и психопатия — кажутся близнецами, на деле у них хватает различий. Писатель Томас Харрис, например, в своей книге «Молчание ягнят» величает Лектера «безупречным социопатом», а сценаристы фильма дружно повысили его статус до «безупречного психопата». В общем, даже в Голливуде путаются.
Для науки же важно одно: серийные убийцы — это не психически больные «монстры» в смирительных рубашках, а люди с холодным, системным, диссоциальным мышлением. И именно эта «нормальность» делает их особенно опасными. Ведь куда проще было бы: «Ага, психиатрическая справка есть — значит, преступник перед нами». Но, увы, реальность сложнее и куда менее удобна.
Социопаты — это, если угодно, «горячие головы» криминального мира. В отличие от холодных и расчётливых психопатов, они чрезвычайно эмоциональны, легко возбудимы и так же легко впадают в ярость. Сдержанность? Самоконтроль? Нет, не слышали. Их эмоциональное состояние можно сравнить с чайником без свистка: закипает быстро, но предупреждения о том, что сейчас всё выльется наружу, нет.
Социопатам невероятно сложно устанавливать нормальные отношения с людьми. В новой социальной группе они чувствуют себя как школьник, которого перевели в середине года: все правила уже устоялись, а ему хочется громко хлопнуть дверью и объявить, что правила — «отстой». Они не скрывают ни своего раздражения, ни презрения к коллективу, ни пренебрежения к нормам. В результате — постоянные конфликты, скандалы и демонстративное «я вам всем покажу».

Их девиантное поведение часто проявляется в мелочах, формально не наказуемых, но вызывающих у окружающих стойкое желание закатить глаза. Социопат за рулём — это не просто водитель, а ходячий источник аварийной статистики. На работе он с удовольствием подложит коллегам «свинью»: не выполнит задание, испортит документы или в последний момент сорвёт общий проект. При этом он искренне удивляется: «А что такого?».
Многие из них тянутся в секты или маргинальные группировки — там, где можно наконец-то быть «особенным», а заодно и законно (по их меркам) ненавидеть весь мир.
Что касается преступлений, то они чаще всего носят спонтанный характер. Социопат действует «здесь и сейчас», не заморачиваясь стратегией. В отличие от педантичного психопата, который составит план преступления почти как бизнес-план стартапа, социопат может пойти на убийство из хулиганских побуждений или совершить мошенничество так, словно это мелкая шалость. А сексуальные нападения или вспышки агрессии для него — вовсе не результат долгих раздумий, а всего лишь следствие эмоционального срыва.
Словом, социопат — это бомба с коротким фитилём. Вопрос только в том, где и когда она рванёт.
Если социопат — это заводной апельсин, который взрывается при первом же толчке, то психопат — это настоящий «хирург в белом халате» криминального мира: точный, расчётливый и холодный. Он не брызжет эмоциями направо и налево, напротив — выглядит настолько обаятельным и надёжным, что ему хочется доверить не только секреты, но и запасные ключи от квартиры.

Психопаты умеют мастерски скрывать свои истинные чувства. Они могут улыбаться вам так тепло, что вы почувствуете себя их лучшим другом, в то время как в голове у них уже складывается план, как использовать вас в собственных целях. Манипуляция для них — это не искусство, а повседневная рутина. Красноречие, артистизм, приличное образование и солидная работа — вот их маска. У многих есть семьи, супруги, дети, и никто даже не догадывается, что за «социальным успехом» скрывается холодный хищник.
Недаром канадский психолог Роберт Хаэр назвал психопатов «социальными хищниками». Эти «львы в костюмах от Armani» входят в доверие только затем, чтобы обобрать или использовать жертву. Совести у них нет, сочувствие отсутствует напрочь. Зато есть железная логика: «хочу — значит, сделаю». И при этом никаких угрызений совести, никаких внутренних драм.
В отличие от вспыльчивых социопатов, психопаты действуют продуманно. Перед преступлением они планируют детали так тщательно, что иной бизнес-план стартапа выглядит менее основательно. Обязательно составят запасной план «Б» (а иногда и «В»), на случай если обстоятельства изменятся. И даже во время исполнения — хладнокровие и дотошность.
Добавим к этому ещё склонность к сексуальным извращениям — и картина «идеального хищника» становится завершённой. Но самое коварное в том, что психопаты в полной мере осознают, что делают. Это не галлюцинирующий пациент психиатрической клиники, который не понимает, где он и кто вокруг. Психопат видит реальность ясно, мыслит рационально и делает осознанный выбор. Судебно-психиатрическая экспертиза, как правило, признаёт их вменяемыми: «Да, господа присяжные, он понимал, что делает».
Исследования показывают: среди всех преступников психопаты составляют около 15–20%. Но если говорить о тяжких насильственных преступлениях — там их больше половины. То есть каждый второй. Статистика, мягко говоря, не располагает к оптимизму.

Да, действительно, среди серийных убийц встречаются и психически больные люди. Вот, к примеру, Джумагалиев, прославившийся тем, что не просто убивал своих жертв, но и, простите за гастрономические подробности, с аппетитом их поедал. Более того, он с добродушием щедрого хозяина угощал «блюдами» своих друзей, делая их невольными каннибалами. Или Эдвард Гейн — ещё одна «икона ужаса»: убивал, увечил, частично поедал, а заодно мастерил абажуры, маски и элементы гардероба из человеческой кожи. Такой своеобразный «хендмейд», который, конечно, не выставишь на художественном аукционе.
Именно ужасы Гейна вдохновили сценаристов на создание культовых фильмов — «Молчание ягнят», «Психо» и «Техасская резня бензопилой». У обоих этих персонажей врачи диагностировали тяжёлые психические заболевания — шизофрению. Их отправили не в тюрьму, а в специализированные клиники. Правда, с Джумагалиевым история приобрела почти гротескный оттенок: его несколько раз признавали «вылечившимся» и выпускали. И каждый раз где-то неподалёку находили изуродованные тела. В итоге психиатры решили, что двери клиники для него должны закрыться окончательно.
Но вот что важно: такие персонажи — скорее исключение, чем правило. Большинство серийных убийц вовсе не страдают шизофренией. Они прекрасно понимают, что делают, и действуют осознанно. Да, они истязают, калечат, убивают, но при этом сохраняют полный контакт с реальностью. Судебно-психиатрическая экспертиза чаще всего выносит вердикт: психопатия, а это — не болезнь, а личностное расстройство. И с точки зрения закона — никакого освобождения от ответственности, милости просим в тюрьму (или, в некоторых странах, на смертную казнь).
Разница проста: если убийство совершает человек с тяжёлым психическим заболеванием — например, шизофреник, который слышал «голоса свыше», — его признают невменяемым и отправляют на лечение. А вот если убийство совершает психопат, то его признают вменяемым, то есть полностью осознающим суть своих действий. И уже не врач, а суд решает его судьбу.
Статистика говорит сама за себя: среди серийных убийц, задержанных правоохранителями, психически больными признано меньше 4%. И только треть из них освободили от ответственности. То есть, вопреки расхожему мифу, большинство маньяков не безумцы. Они абсолютно вменяемы и совершают свои преступления вполне сознательно.
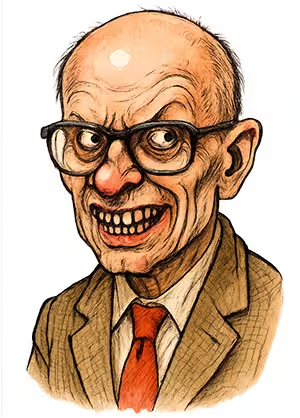
Вспомним Чикатило, который скрупулёзно разрабатывал планы убийств, или Сливко, снимавшего свои «подвиги» на плёнку, или Пичушкина, решившего устроить настоящую шахматную партию, где фигурами стали люди. Разве можно сказать, что они не понимали, что творят? Их продуманность, изощрённость и умение заметать следы только подчёркивают: это был не бред, а хладнокровный расчёт.
Психопаты прекрасно осознают незаконность своих действий. Но их собственное понимание «правильного и неправильного» никак не мешает им убивать. Более того, для многих это — непреодолимая внутренняя потребность. «Многие насильники вовсе не являются больными людьми, — признался один из самых кровавых серийных убийц Тед Банди. — Это личности, которые верят, что могут безнаказанно навязать свою волю другим».
Можно ли таких людей исправить? Ответ экспертов однозначен: нет. Как сказал известный криминальный психолог Рой Хейзелвуд, чья фраза стала афоризмом: «В нашем обществе нет лекарства против педофилов и сексуальных маньяков. Даже если вы его найдёте, оно будет называться либо газовая камера, либо электрический стул».
Миф второй: серийные убийцы – злые гении
Нам уже давно внушили: серийный убийца — это хитроумный злодей, интеллектуальный титан, который на несколько шагов впереди полиции, словно играет с ней в шахматы, где у следователя только пешки, а у маньяка — как минимум ферзь и два коня. Кинематограф и литература сделали всё, чтобы этот образ врезался нам в память: дьявольски умный, хитрый, осторожный, он легко заманивает жертв и столь же легко ускользает от правосудия.
В фильмах это смотрится завораживающе. Возьмём культовый триллер «Семь», где Джон Доу обыгрывает детективов по всем правилам жанра: педантично готовит преступления, оставляет послания и, кажется, управляет каждым шагом полиции. Или тот же доктор Ганнибал Лектер, который вообще стал символом «преступного гения»: эрудированный психиатр, тонкий гурман, человек, цитирующий Данте и одновременно поедающий своих собеседников. Более того, в фильме он умудряется консультировать ФБР — и всё это, сидя в камере психбольницы!
Звучит эффектно. Вот только в реальности всё гораздо менее романтично. Большинство серийных убийц не обладают каким-то особым интеллектом. Нет, они не решают уравнения в три действия и не пишут философские трактаты между преступлениями. Их «успешность» объясняется не гениальностью, а банальными личностными особенностями.
Как правило, серийные убийцы — это психопаты. А психопатия даёт не высокий IQ, а совсем другие «таланты»: холодное хладнокровие, умение тщательно планировать, одержимость идеей и полное отсутствие сочувствия. Добавьте к этому железную решимость и патологическую настойчивость — и вы получите портрет того самого «эффективного маньяка», который месяцами и даже годами может оставаться вне поля зрения полиции.
То есть никакого «злого гения» тут нет. Есть человек, который, в отличие от обычных преступников, не бросает дело на полпути, а скрупулёзно повторяет свой сценарий снова и снова. И вот именно эта патологическая настойчивость и создаёт иллюзию «гениальности».
Если говорить прямо, большинство серийных убийц скорее похожи не на профессоров математики или философов, а на людей, которые могут часами собирать один и тот же пазл. Только пазл этот — из чужих жизней.
Исследования сотрудников Национального центра по анализу насильственных преступлений ФБР показывают: никакими гениями серийные убийцы не являются. Их IQ мало отличается от среднего по населению. Практически у всех он колеблется в диапазоне от пограничного уровня до «слегка выше среднего». Иными словами, это не профессора математики и не шахматные гроссмейстеры. Они достаточно разумны, чтобы открыть дверь и выключить свет, но «криминальных Эйнштейнов» среди них — кот наплакал.
Более того, школьная успеваемость у большинства серийных убийц ниже среднего. Карьерных высот они тоже не достигают: никакого кресла топ-менеджера, максимум — должности, не требующие особой квалификации. Парадокс в том, что образ «великого злодея» закрепился в массовом сознании, несмотря на всю эту прозаичную статистику.
Откуда же растут ноги у мифа о «криминальной гениальности»? Здесь два источника.
Первый — недоразумение с классификацией ФБР. Когда специалисты бюро разделили серийных убийц на «организованных» и «неорганизованных», про первых написали: «нормальный IQ или даже высокий». И вот это маленькое «даже высокий» сыграло роковую роль. В научных статьях, а потом и в учебниках, появилось утверждение: мол, организованные преступники — это люди с высоким интеллектом. На самом деле «высокий» здесь означает в лучшем случае 98,5 балла по шкале IQ. А средний уровень у обычного населения — 90–110. То есть никаких «гениев» — просто нормальный средний показатель. Но, как говорится, если в документе есть слово «высокий», оно непременно станет заголовком газет.
Второй источник мифа — сами правоохранители. Представьте ситуацию: серийные убийства совершаются годами, преступники остаются на свободе. Как руководству полиции объяснить обществу и СМИ, почему дело всё ещё не раскрыто? Проще всего сказать: «Да, они чрезвычайно хитры и умны, это дьявольские гении, которых так сложно поймать». И публика, и журналисты тут же соглашаются: ну, раз гений — тогда понятно, почему не поймали.
На самом деле проблема вовсе не в «гениальности» преступников. Серийные убийства совершаются в условиях полной неочевидности. Это не уличный грабёж, где есть свидетели. Большая часть подобных дел происходит в крупных городах, где преступник растворяется в толпе. Он не ведёт «преступный образ жизни», не сидит в подворотне с криминальными друзьями, а выглядит как «свой парень». Стандартные оперативные приёмы часто бесполезны. Иногда остаётся лишь надеяться на счастливый случай — случайную ошибку преступника, внимательного свидетеля или совпадение обстоятельств.
Добавьте сюда давление общественного мнения, внимание СМИ, бесконечные слухи — и вот вам почва для мифов о «злых гениях», которые на деле оказываются людьми с обычным, а порой и весьма посредственным интеллектом.
Пэт Браун, известный психолог, посвятивший немало работ развенчанию мифов о серийных убийцах, часто приводит в пример одного из самых печально знаменитых маньяков Америки — Теда Банди. Его называли «маньяком № 1 в США». На его счету — более 30 доказанных убийств девушек (по некоторым оценкам — свыше сотни). Способ — дубина или ледоруб. Жестокие пытки, сексуальное насилие — преступления Банди были чудовищными.

СМИ, однако, создавали совсем иной образ. Они окрестили его «харизматичным убийцей» — аккуратный костюм, улыбка, умение говорить. Его представляли как почти демонически умного, организованного и расчётливого преступника, который годами обводил полицию вокруг пальца. Результат? Десятки песен, фильмы, книги, телепередачи — Тед Банди превратился в «звезду» криминального пантеона.
Да, полиция его задерживала — и не раз. Но каждый раз он либо сбегал, либо умудрялся ввести стражей порядка в заблуждение. Один побег и вовсе был фарсом: его оставили поработать в библиотеке суда, он подошёл к окну… и выпрыгнул. Второй раз он выкопал лаз в камере и почти год находился на свободе, попутно продолжая убивать. Чтобы оттянуть электрический стул, Банди даже согласился «консультировать» полицию по вопросам серийных убийств. Этот сюжетный ход позже и вдохновил сценаристов «Молчания ягнят».
Но был ли он действительно так умен? Вот об этом и говорит Пэт Браун: образ, созданный прессой и даже частично правоохранительными органами, не совпадает с реальностью. Да, он закончил школу, поступил на юрфак, учил китайский. Но бросил учёбу, нигде толком не работал, интеллектуальными достижениями не отличался. А его поведение выдаёт скорее не «злого гения», а посредственного, но настырного психопата.
Он возил в машине улики на виду. Представлялся своим настоящим именем жертвам (!). Даже под полицейским наблюдением продолжал вести преступную деятельность. И то, что он так долго оставался на свободе, — вовсе не его «гениальность», а элементарные ошибки и недосмотр правоохранительных органов.
Пэт Браун честно пишет: вся история Банди больше напоминает комедию «Тупой, ещё тупее», чем триллер про злодея-гения. Просто для зрителя куда приятнее поверить, что против полиции стоял хитроумный демон, чем признать: полиция тоже ошибается, иногда фатально.
И Банди — далеко не исключение. Историй, где «гении преступления» оказываются не более чем самоуверенными психопатами, предостаточно. А то, что они годами оставались на свободе, — заслуга не их «таланта», а чужих промахов.
Миф третий: они одиночки, находящиеся в социальной изоляции.
В массовом сознании серийный убийца выглядит примерно так: угрюмый тип, живущий на окраине в заброшенном домике, с занавешенными окнами, в шкафу у него — паутина, в холодильнике — мёртвые крысы, а соседи дружно шепчут: «Да мы всегда знали, что он какой-то странный…».
Но реальность, как это часто бывает, гораздо коварнее. Большинство серийных убийц вовсе не являются социальными изгоями или затворниками. Наоборот — именно то, что они ничем не выделяются из окружения, и позволяет им годами оставаться вне подозрений. В повседневной жизни они выглядят как «образцовые граждане»: милые соседи, заботливые родители, прилежные работники. У них есть семьи, дети, работа, они ходят в церковь, на корпоративы и даже участвуют в жизни местного сообщества. И кто бы мог подумать, что за улыбкой «примерного семьянина» скрывается чудовище?
Примеры говорят сами за себя.
— Гэри Риджуэй, «Убийца с Зелёной реки». Почти двадцать лет держал в страхе жителей Сиэттла, убив около пятидесяти женщин. За это время он успел трижды побывать в браке, воспитать двоих детей, 32 года проработать на одном автотранспортном предприятии художником (!) и, вдобавок, исправно ходил в церковь. Более того, он читал Библию не только дома, но и на работе, а заодно вёл религиозные беседы с коллегами. Такой вот «пример христианской добродетели» — с тёмным секретом в гараже.
— Деннис Рейдер, он же «ВТК-душитель» (от англ. Bind, Torture, Kill — «свяжи, пытай, убей»). За годы своей активности убил десять человек, подвергнув их жестоким истязаниям. Более тридцати лет полиция не могла его поймать, а он тем временем насмехался над следствием, присылая письма с описанием своих преступлений. При этом у него была семья, двое детей, университетский диплом по юриспруденции, служба в ВВС США, руководство бойскаутами и пост главы церковной общины. Словом, идеальный портрет «уважаемого гражданина», который вечерами превращался в садиста.
— Василий Кулик, прозванный «Доктор Смерть». В Иркутске он в течение нескольких лет совершил более 40 преступлений, включая 14 убийств. Жертвами становились дети, пожилые женщины, старухи. И всё это — при вполне респектабельной биографии: сын профессора и директора школы, чемпион города по боксу, выпускник медицинского института, врач скорой помощи. Более того, он даже вёл дневник, тщательно документируя свои зверства — словно писал отчёт о научной работе.
Все эти примеры показывают, что миф о «социальных неудачниках» — не более чем удобная иллюзия. Страшнее всего именно то, что серийный убийца может ничем не отличаться от вас или вашего соседа по лестничной клетке. Тот самый человек, который здоровается утром в лифте, помогает донести сумку или дружески подмигивает на парковке.
И вот именно эта «нормальность» — лучшая маскировка.
На экране всё просто: маньяк должен быть с мрачным взглядом, в чёрном плаще, с топором в руке и шрамом через всё лицо. Его видно издалека, дети в ужасе убегают, собаки воют, а у прохожих волосы встают дыбом. Но в жизни всё наоборот. Серийные убийцы-психопаты внешне ничем не отличаются от обычных людей. Более того, они зачастую выглядят куда приятнее, чем среднестатистический сосед: аккуратные, вежливые, приветливые, умеют поддержать разговор и даже помочь донести сумку.

Эта их способность прятать звериную натуру под фасадом «нормальности» и получила название «маска нормальности». Термин предложил Херви Клекли, занимавшийся изучением психопатов. И в нём — вся суть: маньяк не ходит по улицам с табличкой «Осторожно, убийца!». Он прячется за маской благообразия, иногда даже — образцовости. Может быть примерным семьянином, активным членом общины, хорошим коллегой.
Но самое тревожное — специалисты отмечают, что убийца не играет роль. После совершения преступления он действительно может быть спокоен и уравновешен. У него нет чувства вины, нет внутреннего конфликта, и потому в обычной жизни он и правда кажется «нормальным» человеком. В этом и заключается страшная ирония: они не притворяются — они такие.
Часто их жизнь напоминает историю, описанную Робертом Л. Стивенсоном в «Странной истории доктора Джекила и мистера Хайда». Добропорядочный доктор днём — и чудовище ночью. Только в отличие от литературного Джекила, который мучился и пытался бороться со своим вторым «я», реальные «мистеры Хайды» чувствуют себя вполне комфортно в обеих ролях. Днём — заботливый сосед, ночью — жестокий убийца.
И вот тут возникает самый неприятный вопрос: сколько таких «мистеров Хайдов» может прямо сейчас проходить мимо нас на улице, улыбаясь и вежливо кивая?
Миф четвертый: все серийные убийцы – мужчины
В массовом сознании всё выглядит просто: маньяк — это угрюмый мужчина с ледяным взглядом. А женщина, если и фигурирует в истории, то либо как жертва, либо как героическая спасительница, которая в последний момент всаживает нож в чудовище, спасая свою жизнь.
Неудивительно, что у многих до сих пор в голове укоренилось: женщины на такое не способны. «Ну что вы, женщины нежные, они на цветы смотрят, а не на топоры», — примерно так думает обыватель.
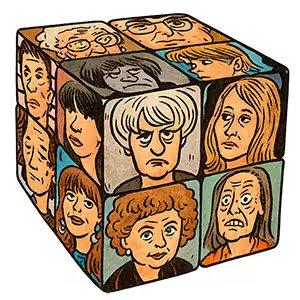
Формированию этого мифа поспособствовали как минимум два фактора. Во-первых, древний и живучий стереотип о том, что мужчины агрессивны, а женщины пассивны. Мол, мужчина идёт в бой, а женщина сидит дома с детьми. Во-вторых, первые исследования серийных убийц в 70–90-е годы прошлого века, где специалисты-профайлеры смело заявляли: «Среди серийных убийц женщин нет». Женщинам оставили роль «разового убийцы»: мол, если уж и убила, то исключительно в силу обстоятельств — в драке, в защите, в отчаянии.
Средства массовой информации и поп-культура этот стереотип только укрепили. В фильмах и книгах женщина чаще всего — либо погибшая от рук маньяка, либо мстительница, которая, преодолев страх, вонзает кухонный нож в злодея. Образ кровавой серийной убийцы в массовом сознании попросту отсутствует. И не потому, что таких не бывает, а потому что такой сценарий плохо вписывается в привычные «гендерные роли» и хуже продаёт билеты.
Мужчина-маньяк — это кассово, страшно, сенсационно. Газета с заголовком «Обычный сосед убил двадцать женщин» продаётся лучше, чем с новостью о серийной убийце-женщине, которая, к примеру, травила своих жертв мышьяком. И хотя реальность говорит об обратном, обществу выгоднее культивировать привычную мифологию: «ужасы — дело мужское».
К сожалению (а может, и к ужасу), факты говорят обратное: женщин среди серийных убийц не так уж мало. Они есть. И их истории не менее мрачные, чем у мужчин — просто о них говорят реже.
Статистика упряма. И если американские фильмы и романы предпочитают изображать женщин либо жертвами, либо мстительницами, то данные ФБР рисуют куда менее приятную картину. По официальным данным, женщины совершают около 15% всех насильственных преступлений в США. И что ещё тревожнее — эта цифра стабильно растёт. Примерно 10% всех убийств в Америке совершаются женщинами, а доля женщин среди серийных убийц доходит до 20%. Получается, что среди «серийников» женщин пропорционально больше, чем в других категориях насильственных преступников.
К сожалению, аналогичной российской статистики пока нет. Но есть другие цифры: за последние пять лет общее число убийств в стране снизилось на 30%, а вот число женщин-убийц выросло почти на четверть. Если учесть, что уровень предумышленных убийств в России примерно в два раза выше, чем в США, выводы напрашиваются сами собой.

И это вовсе не новое явление. Женщины-маньяки существуют столько же, сколько и сама история преступности. Самая первая известная серийная убийца — Локуста, прозванная «Отравительницей». Более 2000 лет назад в Древнем Риме она лишила жизни не меньше четырёхсот человек, включая самого императора Клавдия. Но Локуста не ограничилась личными достижениями: она открыла своеобразную «школу юного отравителя» и обучила десятки учеников. Историки полагают, что через их руки прошло ещё около десяти тысяч жертв. Так что Локуста, пожалуй, не только первая, но и абсолютная рекордсменка в своей «профессии».
С тех пор история знает уже более двух сотен серийных убийц женского пола. И, увы, список продолжает пополняться. Каждый год появляются новые «монстры в юбках».
Эрик Хикей, автор книги «Серийные убийцы и их жертвы», метко подметил: «Это тихие убийцы. Они так же опасны, как маньяки-мужчины, но не так заметны. Поэтому им удаётся убивать дольше».
А Майкл Келлегер, автор масштабного исследования серийных убийц-женщин «Наиболее редкие убийцы», после анализа ста историй женщин-маньяков 20-21 веков пришёл к выводу: в среднем они орудуют восемь лет подряд. Для сравнения, мужчина-маньяк держится «на плаву» примерно вдвое меньше.
И вот тут в голове ломается привычный шаблон: мужчина — агрессивный «злодей», женщина — нежный «ангел». Оказывается, ангел может держать в сумочке не только пудреницу, но и пузырёк с ядом.
Серийные убийцы-женщины во многом похожи на мужчин, но имеют и свои особенности, которые ломают привычные стереотипы.
Во-первых, круг их жертв. Мужчины-убийцы чаще всего выбирают незнакомцев: поиск, охота, почти ритуал. Это часть их «игры». Женщины же обычно убивают тех, кто ближе всего: мужей, любовников, детей, родственников, коллег. Проще говоря — тех, кто находится под рукой и кому доверяет. Незнакомцы становятся жертвами крайне редко.
Во-вторых, методы. Женщины-маньяки куда реже истязают жертв, устраивают изощрённые пытки или прибегают к некрофилии и каннибализму. Их мотивы иная сфера: чаще это выгода, ревность, месть или стремление избавиться от «лишнего». Поэтому у женщин «массовая жестокость ради жестокости» встречается реже.

Но, как и везде, есть исключения. И одно из самых известных — Дарья Николаевна Салтыкова, вошедшая в историю как Салтычиха. Жестокая русская помещица XVIII века стала символом женского садизма. На её счету — около 150 замученных крепостных. Методы — куда изобретательнее, чем у многих её «коллег»-мужчин. Она облила людей кипятком, опаливала волосы, использовала горячие щипцы для завивки, хватая ими крестьян за уши. Часто таскала женщин за волосы, методично била их головами о стены, морила голодом, зимой привязывала голыми на морозе.
Особой «страстью» Салтычихи было убивать девушек, которые собирались выйти замуж. Свидетели рассказывали, что многие её жертвы оставались без волос: она рвала их прямо руками. В этом — весь кошмарный символизм: изуродованные судьбы и жизни, искалеченные буквально руками хозяйки.
Таким образом, женские серийные убийцы чаще действуют «тихо» и практично, без излишнего «театра насилия», но история Салтычихи показывает: если женщина переходит грань, её жестокость ничуть не уступает мужской, а порой даже превосходит её своей изощрённостью.
Американский исследователь Майкл Келлехер предложил классификацию женщин, совершающих серийные убийства. И первое, что бросается в глаза: они вовсе не обезумевшие фурии, а часто вполне «организованные» преступницы.
Организованные убийцы — это, как правило, зрелые, социально адекватные женщины, которые отлично умеют контролировать себя. Они тщательно планируют свои действия, выбирают удобное место (часто — собственный дом или работу), продумывают орудие убийства. И если мужчины-маньяки любят ножи и дубины, то женщины чаще выбирают тихие средства: яд, инъекции, удушение. Всё выглядит почти «естественно», что позволяет им оставаться в тени долгие годы.
Одним из самых узнаваемых подтипов этой категории стали «чёрные вдовы». Название — в честь паучихи каракурта, которая после брачного акта обедает своим супругом. Аналогия тут более чем прозрачна: жертвами становятся близкие — мужья, любовники, члены семьи, то есть те, кто доверяет убийце больше всего.
Мотив прост и прозаичен — корысть. Браки и романы превращаются в своеобразный «бизнес-план»: сначала свадьба, потом страховка, затем неожиданная смерть супруга. Всё чинно и благопристойно: смерть «от сердца», «неожиданный приступ» или «несчастный случай». В среднем за десяток-другой лет у такой дамы «естественным образом» умирают 6–8 человек.
Самая известная представительница этой категории — Бэлла Гиннесс. Она родилась в норвежской деревне, а в конце XIX века перебралась в Америку. Там развернула свой «семейный бизнес» поистине в промышленных масштабах: за 12 лет (1896–1908) на её счету оказалось 49 жертв. Среди них — женихи, любовники, работники, которых она нанимала и одновременно соблазняла. После их смерти Бэлла становилась обладательницей их страховок и банковских счетов.
Но на этом всё не ограничилось. Даже собственные дети не избежали её расчётов: перед тем как убить их, она застраховала их жизнь.
Самое страшное — не то, что Бэлла убила десятки людей ради денег, а то, что она сумела уйти от правосудия. Когда полиция наконец заинтересовалась её делами, она исчезла. И до сих пор остаётся тайной: погибла ли она в пожаре на своей ферме или просто скрылась, чтобы продолжить «карьеру» где-то в другом месте.
Вторая категория по классификации Майкла Келлехера звучит особенно зловеще — «Ангелы смерти». Самое страшное в них то, что они работают там, где мы привыкли искать защиту и помощь: в больницах, хосписах, домах престарелых. Их профессия — спасать, их долг — облегчать страдания, но на деле они берут в руки не крест, а косу.
Эти женщины примеряют на себя роль вершительниц судеб: кому жить, а кому умереть «раньше срока». Их рабочая среда идеально маскирует преступления: смерть пациента в больнице или хосписе редко вызывает подозрение. В среднем за пару лет «ангел» успевает унести с собой около восьми жизней.
Мотивы бывают разные: деньги, желание почувствовать власть, стремление к известности или просто элементарная лень. Так, египетская медсестра Аида Hyp эль-Дин за несколько лет убила 18 пациентов, травя их похищенными из аптеки лекарствами. И как же она объяснила свои действия? Просто: «Не хотела, чтобы больные своими стонами мешали мне спать во время ночных дежурств». То есть, вместо берушей — яд.
Следующая категория — «Сексуальные хищницы». В отличие от «Ангелов смерти», которые действуют тихо и в стерильных палатах, эти убийцы ведут кочевой образ жизни. Их страсть — путешествия, плотские удовольствия и оружие. Основной инструмент — огнестрельное оружие, а жертвы чаще всего мужчины. Срок их преступной активности обычно недолог — около трёх лет, но за это время они успевают унести не меньше шести жизней.
Самая известная представительница — Эйлин Уорнос, проститутка, державшая в страхе дороги Флориды в конце 1980-х. Она убила семерых мужчин, а полиция долгое время даже не рассматривала версию о женщине — искали мужчину-убийцу. Её история стала громкой сенсацией, а финал был предсказуем: смертный приговор и казнь.
«Ангелы смерти» пугают тем, что убивают тихо, в белом халате и с медицинской улыбкой. «Сексуальные хищницы» же действуют ярко, агрессивно и открыто, ломая в клочья миф о женской «нежности» и «безобидности».
Четвёртая категория женских серийных убийц по Келлехеру — это «мстительницы». Мотив здесь банален и древен, как мир: ревность, зависть, месть. Для «разового» убийства у женщин это объяснение встречается часто, но в серийных историях — куда реже. Жертвами обычно становятся либо члены семьи, либо заметные в обществе люди. Эти дамы действуют осторожно, планируют тщательно, а преступная активность длится в среднем два года. За это время они убивают 3–4 человек.
Классический пример — Эллен Этеридж. Вышла замуж за вдовца-миллионера с восьмью детьми. Казалось бы — сказка: богатый муж, большой дом, обеспеченная жизнь. Но внимание мужа к детям стало для неё невыносимым. Эллен решила, что конкуренцию нужно устранить… системно. В 1912–1913 гг. четверо детей умерли от мышьяка, ещё один чудом выжил после срочной госпитализации. В итоге «мачеха из ада» вошла в историю не как «заботливая мать», а как серийная убийца.
Пятая категория — «корыстные убийцы». Если «чёрные вдовы» устраняют только близких ради наследства и страховок, то эти дамы не заморачиваются: убивают чужих, незнакомых людей. Мотив — исключительно деньги и выгода. Никакой эмоциональной привязки, только холодный расчёт. Действуют они в одиночку и считаются самыми умными и осторожными среди женских маньяков. Свою «карьеру» они могут вести до десяти лет, за это время унося жизни 10–25 жертв. И многим удаётся уйти от ответственности.
На Западе этот тип встречается редко. Россия же «отметилась» двумя жуткими примерами.
В конце XIX — начале XX века в Самаре действовала мадам Попова. Она наладила настоящий «бизнес на крови», предлагая замужним женщинам «услугу» по избавлению от жестоких мужей. Цена вопроса — плата за яд. За 30 лет её жертвами стали более 300 мужчин. На следствии Попова с пафосом заявляла, что таким образом боролась за права женщин. В её устах это звучало как лозунг раннего феминизма, но на деле — тысячи сирот и вдов.
Совсем недавний пример — Ирина Гайдамачук, прозванная «Красноуфимской волчицей». В период с 2002 по 2010 гг. она убила 17 пенсионерок в возрасте от 60 до 85 лет, став самой массовой женщиной-серийной убийцей современной России. Схема была проста: представлялась соцработницей или сотрудницей пожарной охраны, проникала в квартиры, убивала жертв молотком, забирала деньги и быстро исчезала. Она меняла внешность, заметала следы и признавалась, что мотив у неё был один — деньги.
Если «мстительницы» убивают из ревности и зависти, то «корыстные убийцы» действуют как бизнес-леди криминального мира: холодно, расчётливо и ради выгоды.
Вторая группа женских серийных убийц по типологии — это дезорганизованные преступницы. В отличие от своих расчётливых «коллег», они чаще молоды, агрессивны, плохо контролируют себя и совсем не склонны к тонкому планированию. Их преступления — это хаос, где место может быть любым, а оружие — от ножа до пистолета. Иногда они и вовсе прибегают к пыткам, словно в их жизни не хватает «острых ощущений».
Первый подтип здесь — групповые преступницы. Примерно треть всех серийных убийц-женщин действовали не в одиночку, а в составе группировок: семейных, женских или смешанных. В среднем на их счету от 9 до 15 жертв.
Смешанные группы встречаются чаще всего: обычно это пара, связанная сексуальными отношениями, где женщина оказывается под влиянием харизматичного и доминирующего партнёра. Самый известный пример — Карла Хомолка и Пол Бернардо, канадская «убийственная парочка». Хомолка помогала Бернардо похищать, насиловать и убивать девочек-подростков. Более того, она не пожалела даже свою родную сестру.
Чисто женские группы — более устойчивые и долговечные. Так, в конце 1980-х в США сиделка Гвендолин Грэхем и её любовница Кэтрин Вуд придумали отвратительную «игру». Они убили шестерых пожилых пациентов, подбирая жертв так, чтобы их инициалы сложились в слово MURDER («убийство»). Когда задуманное не получилось, пара просто продолжила убивать стариков без всякой системы, превращая преступления в часть своих сексуальных игр.
Семейные группы действовали в основном из корыстных побуждений, но некоторые истории звучат так, что кровь стынет. На Украине в Киеве целая семья — Иванютины–Мациборы–Масленко — в течение 11 лет травила людей таллиевой «жидкостью Клеричи». В ход шли соседи, родственники, коллеги, даже школьники.
Так, Тамара Иванютина, начав карьеру с отравления собственного мужа ради квартиры, затем отправила на тот свет его родителей, чтобы заполучить дом. Работая посудомойкой в школе, она отравила школьного парторга и учителя химии, а заодно двух детей, попросивших у неё котлеты для домашних животных. Её остановили только после массового отравления в школе, когда погибли четверо и девять оказались в реанимации.
Старшая сестра — Нина Мацибора — также не отставала: отравила мужа и завладела его квартирой. Родители, супруги Масленко, тоже участвовали: убили соседа по коммуналке и родственницу, посмевшую сделать им замечание.
Итог деятельности этой «семейной химической лаборатории»: доказано 40 эпизодов отравления, из них 13 — со смертельным исходом.
Среди дезорганизованных преступниц встречается и довольно редкий подтип — психически нездоровые убийцы. Чаще всего они страдают от расстройств вроде синдрома Мюнхгаузена по доверенности, когда человек симулирует болезни или травмы у других ради привлечения внимания к себе.
Так, в 1991 году английская медсестра Беверли Эллит за два месяца убила четверых малышей и покушалась ещё на девятерых, которые чудом выжили. У неё с детства проявлялись признаки синдрома Мюнхгаузена, а позже — его «доверенной» формы. Для окружающих она была заботливой сиделкой, а на деле — тихим палачом в белом халате.
К этой же категории относят женщин, убивавших собственных детей в состоянии тяжёлой послеродовой депрессии или психоза. Здесь мотивы понятнее, но от этого не менее трагичны: жизнь ломается в тот момент, когда должна зарождаться новая.
Третий подтип — «немотивированные убийцы». Это случаи, когда объяснить преступления невозможно даже самой преступнице. Нет выгоды, нет мести, нет ревности. Есть только пустота и непостижимое желание убивать.
Один из ярких примеров — Кристина Фаллинг. В начале 1980-х эта 17-летняя школьница подрабатывала няней. Она заманивала соседских детей в парк и душила их. Всего — пять жертв за два года. На суде так и не удалось установить причину её поступков. Сама Кристина объяснить ничего не могла. Иногда за этим стоит психическая патология, иногда — загадка, на которую у науки пока нет ответа.
Четвёртый подтип — «неизвестные убийцы». Это те, кто сумел уйти от подозрений и никогда не был пойман. Эксперты уверены: их немало. Их преступления остались нераскрытыми, а имена так и не вошли в криминальные хроники. Именно поэтому учёные выделяют их в отдельный тип: мы знаем, что они есть, но не знаем, кто они.
…Мы привыкли говорить о равенстве полов и о том, что «слабый пол» давно перестал быть слабым. Женщины доказали, что способны на всё то же, что и мужчины — в науке, в политике, в бизнесе. Но, честно говоря, очень не хочется, чтобы они доказывали это равенство и в столь мрачной сфере, как серийные убийства. К сожалению, факты показывают: и здесь женщины ничуть не уступают мужчинам.
Миф пятый: серийные убийцы не могут остановиться
Голливуд уверяет нас: если человек стал серийным убийцей, то он будет убивать до конца жизни, пока его не поймают или не застрелят в эффектной перестрелке. В реальности всё сложнее. Да, многие продолжают убивать до самого ареста. Но утверждать, что серийный убийца «не может остановиться» — неправильно. На их поведение влияют и внешние обстоятельства, и внутренние изменения: от банального страха попасться до потери интереса к «игре».
История знает немало примеров, когда серийные убийцы прекращали свою деятельность на годы — а то и навсегда. Иногда это происходило из-за изменений в личной жизни: семья, переезд, новая работа. Иногда их останавливали успехи полиции, когда они начинали ощущать дыхание следователей в затылок. И да, у некоторых случалось нечто вроде внутреннего «выгорания» — убийство переставало приносить прежние ощущения.

Характерный пример — Джозеф Деанджело, «Убийца из Золотого штата». С 1975 по 1986 годы он терроризировал Калифорнию: убил 13 человек, изнасиловал не меньше 50 женщин и совершил более сотни краж со взломом. Он был холодным, расчётливым садистом, умевшим неделями выслеживать жертву. Деанджело мог провести сутки в засаде, отключать сигнализацию в элитных особняках, заранее прятать шнурки под простынями, чтобы потом связать ими женщин. Если в доме оказывался мужчина — его избивали и расстреливали.
Поймать его не удавалось свыше 40 лет. И это неудивительно: в момент начала своей карьеры он служил в полиции, знал методы расследований, имел доступ к закрытым базам данных. Это позволяло ему оставаться на шаг впереди следствия. Но в итоге его «крыша» тоже рухнула: в 2018 году криминалисты вычислили его по ДНК, арестовали и приговорили к 11 пожизненным срокам.
Любопытно, что за последние 25 лет до ареста Деанджело жил вполне обычной жизнью: семья, рыбалка, улыбки соседям и тихая старость. Почему он остановился? Сам он уверял, что все преступления совершал не он, а его внутренний «демон» по имени Джерри — такой себе личный мистер Хайд. «Я не хотел этого, но Джерри был во мне. Потом я смог избавиться от него», — заявил Деанджело. Звучит как сценарий для дешёвого фильма. Скорее всего, всё было куда прозаичнее: после увольнения из полиции в 1979 году (за магазинную кражу, к слову) он понял, что риски разоблачения слишком велики.
Так или иначе, его история — яркий пример того, что серийный убийца может остановиться. В числе «затормозивших» числятся и такие фигуры, как Зодиак, Гэри Риджуэй («Убийца с Зелёной реки»), Деннис Рейдер («ВТК»).
Так что миф о том, что «маньяк не остановится, пока не умрёт» — это больше голливудский сценарий, чем реальность. В жизни у маньяков бывает «пенсия» — просто выглядит она не как отпуск на море, а как тихая пауза перед будущим разоблачением.
Миф шестой: все серийные убийцы хотят быть пойманными
Ах, это сладкое голливудское клише: маньяк будто бы «играет» с полицией, оставляет загадки и улики, чтобы его нашли. Как будто вся его миссия — дождаться драматичного разоблачения, аплодисментов присяжных и личного выхода на «сцену». На самом деле всё это — сценарные фантазии.
Реальные серийные убийцы не мечтают попасться. Им нравится сам процесс убийства и власть, которую они чувствуют над жертвами. А потеря контроля, арест, приговор — это то, чего они боятся сильнее всего. Они хотят жить своей «карьерой» как можно дольше и без риска.
Как и другие преступники, маньяки прекрасно понимают: их ждёт либо смертная казнь, либо пожизненное заключение. И потому делают всё, чтобы избежать поимки. С каждым новым преступлением они становятся опытнее: планируют лучше, заметая следы всё тщательнее, уничтожают улики, избегают свидетелей. Каждое «успешное» убийство укрепляет в них уверенность, будто они непобедимы.
Но тут и кроется их слабость: чувство безнаказанности часто перерастает в манию величия. Убийцы начинают рисковать, становиться небрежными. И именно это чаще всего приводит к аресту. Серийные убийцы не хотят быть пойманными. Их ловят потому, что они уверены: «меня-то точно никогда не поймают».
Классический пример — Джоэл Рифкин, один из самых жестоких убийц Нью-Йорка начала 1990-х. За четыре года он убил 17 женщин, в основном проституток, и оставался вне подозрений. Его поймали… совершенно случайно. Полицейские хотели остановить его пикап всего лишь за отсутствие заднего номерного знака. Рифкин попытался сбежать, но врезался в столб. Ирония судьбы: прямо возле здания суда, где потом его будут судить за все эти убийства.
Когда полицейские подошли к машине, они сразу почувствовали резкий запах. В кузове, под брезентом, лежало тело его последней жертвы. Рифкин труп возил с собой уже четыре дня, не удосужившись спрятать. И это — человек, которого СМИ называли «неуловимым».
Его реакция при задержании вошла в учебники криминальной психологии. На вопрос о находке он спокойно ответил:
— Она была проституткой. Я подобрал её на Аллен-стрит в Манхэттене. У меня был с ней секс. Потом всё пошло наперекосяк, и я задушил её.
Потом добавил с невозмутимостью, достойной комика:
— Вы думаете, мне понадобится адвокат?
Вот и вся «жажда быть пойманным». В реальности маньяки не ждут разоблачения. Они играют до тех пор, пока не оступятся.
Как и в любой истории, у мифа о серийных убийцах, которые «не хотят быть пойманными», есть свои исключения. Редкие, но показательные.
Один из них — Эдмунд Кемпер, «Убийца студенток». На его счету — десять жертв, включая бабушку, дедушку и собственную мать. И вот после убийства матери и её подруги Кемпер… сам позвонил в полицию и признался во всём. Казалось бы, сенсация — но в полиции ему попросту не поверили и… положили трубку. Представьте разочарование маньяка, решившегося на «честность»! Пришлось звонить знакомому полицейскому и уже через него добиваться ареста. В итоге Кемпер действительно оказался в руках правосудия — но явно не так эффектно, как он себе планировал.
Другой пример — Питер Кюртен, вошедший в историю как «Дюссельдорфский вампир». В 1920–1930-х годах он признался в убийстве 69 человек. Но ещё интереснее его поведение: он регулярно писал письма в газеты и полицию, подробно описывая свои преступления и указывая места, где закопал тела. Зачем? Очевидно, чтобы полиция его «раскусила». Более того, после последнего убийства он признался жене и попросил её сдать его властям — ради вознаграждения, которое должно было обеспечить ей будущее.
Это поведение трудно объяснить только жаждой славы или страхом. Здесь скорее сработала странная смесь: подсознательная тяга к признанию, желание облегчить душу и, возможно, патологическая потребность в том, чтобы его поступки наконец заметили.
Такие истории — редкость. Кемпер и Кюртен — скорее исключение, подтверждающее правило: подавляющее большинство серийных убийц будут до последнего делать всё, чтобы их не поймали. Но эти примеры подчёркивают, насколько сложна и многолика психология маньяков. Иногда даже чудовища хотят, чтобы их остановили.
Мы разобрали лишь часть мифов, окружающих тему серийных убийц, но даже этих примеров достаточно, чтобы понять: «криминальные легенды» зачастую имеют мало общего с реальностью. Подобных заблуждений существует ещё немало — и рождаются они чаще всего не в научных лабораториях, а на страницах газет, в телесюжетах и голливудских сценариях. Журналисты и сценаристы любят приукрасить действительность, ведь сенсация всегда продаётся лучше, чем сухой факт.
Проблема в том, что подобные мифы искажённо формируют общественное восприятие. Общество ждёт от полиции поимки «гениального злодея», который играет с ними в интеллектуальные шахматы, тогда как реальность куда прозаичнее: чаще всего речь идёт о хладнокровных, но отнюдь не блистающих умом психопатах. И если следствие строится на ошибочных стереотипах, оно рискует пойти по ложному пути.
Поэтому разоблачение мифов — это не просто занятие для любопытных или любителей «тёмного романтизма». Это важный инструмент для построения объективной картины, которая помогает правоохранительным органам работать эффективнее, а обществу — лучше понимать природу этого страшного феномена.
В конце концов, мифы нужны для сказок и фильмов. А когда речь идёт о серийных убийцах, реальность и без всяких украшений куда страшнее любой голливудской фантазии.




