Учебная литература по юридической психологии
ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯТашкент, 2025.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ СЛЕД В ПРОСТРАНСТВЕ
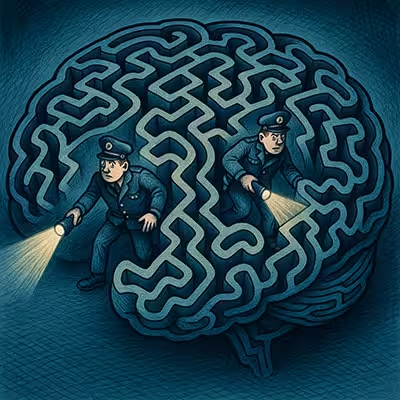
Эдмон Локар
Эти слова великого французского криминалиста, вынесенные в эпиграф, чаще всего вспоминают, говоря о материальных следах: невидимых на первый взгляд пылинках, незаметных ворсинках, едва уловимых отпечатках пальцев. Именно на этой мысли построена вся современная криминалистика: любое взаимодействие человека со средой оставляет след, а задача следователя — его обнаружить и правильно истолковать.
Но Локар, сам того, возможно, не подозревая, сказал нечто большее. Человек оставляет после себя не только осязаемое — обрывки тканей, следы обуви, отпечатки. Он оставляет в пространстве ещё и невидимый след — психологический. Атмосфера комнаты, в которой только что бушевал конфликт, всё ещё «гудит» напряжением. Ощущение тревоги в доме, где прятался беглец, словно впиталось в стены. Тишина места преступления оказывается не пустотой, а своеобразным эхом человеческих эмоций, мыслей и состояний.
Вот именно этот невидимый слой реальности и пытается уловить метод, о котором пойдёт речь в этой главе. Винтроппинг — не магия и не эзотерика, а тонкий психологический инструмент, позволяющий читать пространство как текст, в котором каждая строка написана человеческим присутствием.
Современная криминалистика всё меньше довольствуется только пинцетом и порошком для снятия отпечатков. Сегодня она всё чаще обращается к психологическим методам, ведь именно они позволяют заглянуть туда, куда не доберётся ни один дактилоскопический порошок — во внутренний мир преступника. Одним из таких методов, набирающим всё большую популярность в правоохранительной практике, стал винтроппинг (winthropping).

Появился он на стыке географического и поведенческого профилирования, то есть там, где карта местности встречается с картой человеческой психики. Автор метода — австралийский криминалист и психолог Дэвид Китли (David Keatley). Именно он предложил весьма смелый приём: использовать эмпатическое моделирование поведения подозреваемого. Проще говоря, следователь словно примеряет на себя «шкуру» преступника, старается почувствовать его страхи и мотивы, чтобы догадаться, куда тот мог спрятать улики или даже тела жертв.
Суть винтроппинга заключается в реконструкции пространственного мышления преступника. Следователь сознательно пытается «встать на его место» и посмотреть на мир его глазами: ощутить уровень тревожности, понять степень подготовки, уловить отношение к жертве. Всё это необходимо для того, чтобы предсказать маршрут передвижения, выбор укрытия и логику сокрытия следов.
По словам Китли, преступники редко действуют наугад. Даже в моменты паники ими руководят привычные ориентиры и бессознательные схемы поведения. Они выбирают знакомые тропинки, цепляются за подсознательные привычки, используют ту часть ландшафта, которую хорошо знают. Анализ этих факторов и составляет ядро винтроппинга.
Иными словами, речь идёт о том, чтобы увидеть пространство не глазами беспристрастного картографа, а через призму страхов, импульсов и привычек конкретного человека. Там, где обычный глаз заметит просто парк или заброшенный дом, винтроппинг позволяет разглядеть целую психологическую карту — с зонами безопасности, «точками тревоги» и маршрутами бегства, проложенными в голове преступника задолго до того, как он сделал первый шаг.
Метод винтроппинга не был придуман за университетской кафедрой и не появился на страницах академических журналов как плод чисто кабинетных раздумий. Его истоки куда драматичнее: они уходят в сырые поля и туманные тропинки Северной Ирландии, где в 1970–1980-х годах шёл ожесточённый конфликт. В те годы британские и ирландские силовики преследовали боевиков ИРА, а привычные методы розыска и разведки всё чаще оказывались бессильными. Тогда и родилась мысль: перестать смотреть на мир глазами охотника и попытаться увидеть его глазами жертвы — или, точнее, глазами преследуемого. «Что бы сделал я, если бы был на их месте? Где спрятал бы оружие? Как бы уходил от погони?» — эти вопросы становились для оперативников ключевыми.
Именно там, в реальном поле боя, а не в абстрактной теории, появляется человек, которого можно назвать «крёстным отцом» метода. Капитан Уинтроп, офицер Королевского инженерного корпуса Великобритании, стоял перед, казалось бы, невыполнимой задачей: находить оружейные тайники, замаскированные так искусно, что обычная разведка пасовала. Боевики использовали рельеф, особенности сельской архитектуры, знали каждую щель в старых постройках.
Уинтроп понял: искать нужно не только глазами солдата, но и воображением психолога. Он начал применять интуитивный психологический анализ — мысленно становился на место диверсанта и пытался понять, где тот мог спрятать оружие, учитывая привычки и поведенческие шаблоны местных боевиков.
Вот один из примеров использования данного метода капитаном Уинтропом.
Во время одной из операций в районе Белфаста Уинтроп и его команда получили информацию о возможном тайнике с оружием, но точное местоположение было неизвестно. Стандартные поиски не приносили результата — тайники находились в сложных местах, скрытых под естественным рельефом и среди заброшенных построек.
Используя свой метод, Уинтроп представил себя на месте боевика. Он мысленно прошёл по маршрутам, которыми часто пользовались боевики, и попытался определить логичные точки для укрытия оружия, которые были бы легко доступными в экстренной ситуации, но в то же время незаметными для патрулей, максимально скрытыми в ландшафте, но с удобным выходом.
Его прогноз привёл команду к старой заброшенной водонапорной башне, которая на первый взгляд не вызывала подозрений. Однако именно там была обнаружена тщательно замаскированная оружейная кладовая, способная снабдить группу боевиков на несколько недель.
Такое открытие стало доказательством того, что воображение, подпитанное эмпатией, может быть не менее ценным инструментом, чем разведывательные сводки. Эта техника выглядела почти актёрской: офицер словно репетировал роль противника, мысленно проживал его логику. Тогда у метода ещё не было имени, он не значился ни в одном наставлении. Это было скорее искусство, чем наука.

Лишь десятилетия спустя австралийский криминалист и психолог Дэвид Китли извлёк этот приём из тени и придал ему форму. Он дал методу имя — винтроппинг, в честь офицера, первым применившего его на практике. Китли описал психологические механизмы, разработал теоретическую базу и превратил интуитивный приём в стройный инструмент криминалистики. С этого момента эмпатическое проникновение в сознание злоумышленника стало не только оружием оперативника, но и точным инструментом профайлера и следователя, позволяющим заглянуть в логические лабиринты преступника.
Что такое винтроппинг?
Представьте себе преступника, который только что покидает место преступления. Может быть, он выбегает в панике, спотыкаясь на каждом шаге, а может — идёт холодно и рассудительно, будто заранее просчитал каждый поворот. Но в любом случае он не растворяется в воздухе. Он идёт по улицам, сворачивает в переулки, обходит камеры наблюдения, прячет улики, оставляет ложные следы. Каждое его движение подчинено определённой логике, даже если со стороны всё кажется хаотичным. И если приглядеться к этой логике внимательнее, она начинает проступать, как рисунок на старой фотоплёнке, едва оказавшейся в проявителе.
Именно этим и занимается винтроппинг. Это метод, позволяющий увидеть внутреннюю карту, по которой движется человек. Не географическую карту, с улицами и кварталами, а психологическую — ту, что существует в голове. На ней отмечены зоны безопасности и зоны риска, привычные маршруты и чужие, пугающие территории. Там, где на обычной карте просто «парк», для одного это будет место детских воспоминаний и ощущения спокойствия, а для другого — тревожная территория, где можно легко попасться.
Винтроппинг исходит из того, что поведение человека в пространстве — особенно в условиях стресса — определяется именно этой «психологической картой мира». Мы все носим её в себе. Она формируется опытом, привычками, воспоминаниями, ассоциациями. Именно она подсказывает, куда свернуть, где прятаться, а где, наоборот, ускорить шаг.
Если сказать коротко: винтроппинг — это реконструкция ментального ландшафта человека, чтобы предсказать его поведение в реальном пространстве.
Звучит сложно? Но, в сущности, мы все знакомы с этим с детства. Вспомните себя ребёнком, прячущим во дворе «секретики». Вы искали такое место, куда редко заглядывают взрослые, но откуда удобно наблюдать за приближающимися «врагами». Вы заранее прокладывали путь туда и обратно, просчитывали возможные опасности. В этот момент вы действовали именно так, как действует преступник, скрывающий улики или выбирающий маршрут отхода. Только у ребёнка на кону — стеклянный шарик или фантик от шоколадки, а у взрослого преступника — свобода и, возможно, жизнь.
В этом и заключается главная сила метода: он позволяет исследователю на время войти в чужую голову и увидеть пространство чужими глазами.
Чтобы лучше понять, как работает этот метод, перенесёмся из теории в практику.
Пример первый — поиск тела пропавшей жертвы.
В одном деле следствие столкнулось с исчезновением молодой женщины. Подозреваемый утверждал, что не имеет к пропаже отношения. Область поисков была огромна — лесополоса, заброшенные постройки, десятки возможных мест. Обычные методы грозили превратиться в бесконечное прочёсывание территории. Тогда к работе подключили винтроппинг. Следователь мысленно встал на место подозреваемого: где он чувствовал бы себя в безопасности, куда мог бы свернуть, что показалось бы ему удобным укрытием? В итоге логика подсказала — место должно быть знакомым, но не слишком бросающимся в глаза, рядом с тропой, по которой он ходил раньше. Поиски сузились, и тело нашли именно там — в заросшей яме, недалеко от тропинки, которой он пользовался по пути к работе.
Пример второй — анализ маршрута побега.
Преступник ограбил дом и скрылся. Камеры наблюдения зафиксировали его только в начале пути. Дальше он исчез, словно растворился в лабиринте улиц. Обычная карта не помогала: слишком много вариантов. Но винтроппинг подсказал, что в стрессовой ситуации человек выбирает знакомый маршрут, пусть даже он не самый короткий. Следователь «прошёл» этот путь в голове преступника: где он жил, какие улицы знал с детства, какие дворы считал безопасными. Эта реконструкция вывела полицию к старому двору, где его и задержали.
Пример третий — обнаружение улик.
После убийства подозреваемый утверждал, что избавился от ножа, но не говорил где. Местность представляла собой смесь гаражей, пустырей и маленьких скверов. Логика обычного поиска давала десятки потенциальных точек. Но винтроппинг позволил выделить одну: небольшую площадку у гаражного кооператива, где в детстве он играл. Для него это место было «своим», почти домашним. И действительно, нож оказался именно там — зарыт в землю у старого дерева.
Эти примеры показывают: винтроппинг — это не магия и не ясновидение. Это психологическая реконструкция, позволяющая нащупать в пространстве те линии и точки, которые видит сам преступник. Для стороннего наблюдателя они могут быть невидимыми, но для того, кто умеет «надеть его голову», логика проявляется вполне отчётливо.
Метод винтроппинга опирается на простую, но глубокую мысль: наше движение в пространстве — это не только механика ног, но и отражение психики. Каждый шаг, особенно в критической ситуации, оказывается отпечатком внутреннего мира. Страх ускоряет темп, привычка заставляет идти знакомой дорогой, мораль может подтолкнуть скрыться в «чистом» месте, где будто меньше вины. Пространственное поведение — это всегда зеркало эмоций, опыта и глубинных автоматизмов.
Разберём основные психологические механизмы, которые работают в эти моменты.
1. Когнитивная карта.
Каждый человек носит в себе невидимую карту окружающего мира. Это не точная схема, как в GPS-навигаторе, с метрами и координатами. Скорее, это набор «узлов» и «связей» между ними: вот удобный поворот, вот тёмный двор, где однажды случилась драка, а вот переулок, который вызывает странное чувство спокойствия. Психологи называют это когнитивной картой.
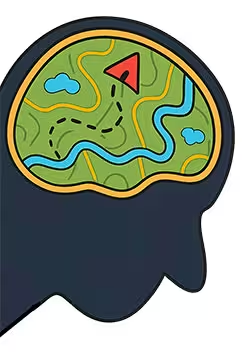
Когда человек оказывается в стрессовой ситуации, он не строит новый маршрут с нуля. Он действует быстрее: достаёт из памяти готовый набор дорожек, как старую настольную игру, где фишка всегда движется по одним и тем же клеткам. Именно когнитивная карта определяет, куда свернёт преступник, убегающий с места преступления.
Пример прост: кратчайший путь домой проходит мимо полицейского участка или перекрёстка с камерами наблюдения. На географической карте это логичный маршрут. Но на когнитивной карте преступника этот путь окрашен тревогой. Поэтому он выберет иной путь — длиннее, но знакомый, «свой». Скажем, ту самую дорожку, по которой он много лет гулял с собакой. Для него она безопасна, потому что его мозг много раз «прокатывал» по ней, укрепляя чувство привычного контроля.
Таким образом, когнитивная карта — это не просто ориентиры. Это эмоционально заряженная схема, где каждый поворот имеет свой оттенок: тревожный, спокойный, нейтральный. Именно поэтому для следователя так важно попытаться реконструировать не объективное пространство, а субъективное — то, что существует в голове преступника.
2. Эмоциональный якорь.
Наша внутренняя карта никогда не бывает нейтральной. На ней есть точки, окрашенные эмоциями. Одни места несут ощущение уюта и безопасности, другие — тревоги, стыда или опасности. Эти точки психологи называют эмоциональными якорями.
Когда человек оказывается под давлением обстоятельств, он действует не только разумом, но и чувствами. И тогда маршрут определяется не рациональной логикой, а тем, что подсознательно кажется более «правильным». Мы словно идём туда, где нас за руку ведёт внутреннее чувство спокойствия.
Преступник, скрывающийся после совершённого деяния, может внезапно свернуть не туда, куда было бы «разумно», а туда, где ему комфортнее. Это может быть двор, где он гонял мяч в детстве; тропинка к старой работе; скамейка в парке, на которой он много раз сидел с друзьями. Для стороннего наблюдателя это абсолютно нелогичный выбор — зачем делать крюк, когда рядом есть короткая дорога? Но для него это место связано с ощущением контроля, привычности, уверенности.
Эмоции берут верх над рациональностью, и именно это винтроппинг учитывает. Преступник, выбирающий свой путь, — это не шахматист, холодно рассчитывающий ходы, а человек, ведомый собственными внутренними якорями. Для следователя понимание этих точек притяжения может стать ключом: именно там стоит искать следы, прятки или неожиданные остановки беглеца.
3. Эвристика и привычки.
Человеческий мозг устроен экономно: он ненавидит тратить лишнюю энергию. Особенно в условиях стресса. Когда времени мало, а сердце бьётся в горле, никто не строит сложные планы. Вместо этого включаются простые правила — эвристики. Это такие маленькие «житейские законы», выработанные опытом, которые позволяют действовать быстро и без лишних раздумий.
Винтроппинг учитывает именно эти автоматизмы. Они могут звучать почти как внутренние заповеди:
«Если надо прятать — прячь там, где сам бы не стал искать».
«После перекрёстка всегда оборачивайся — вдруг за тобой следят».
«Никогда не возвращайся той же дорогой».
Эти правила редко формулируются вслух, но прочно живут внутри человека. Они — продукт его опыта: что-то подсказала улица, что-то — уроки дворового выживания, что-то — кино или рассказы «бывалых». Постепенно они становятся настолько привычными, что мозг исполняет их почти автоматически, не подвергая сомнению.
Для преступника эвристики превращаются в набор устойчивых рефлексов. Именно они определяют, где он будет прятать улики, как выстраивать маршрут отхода, на каком расстоянии чувствовать себя «в безопасности». И для следователя это ценная подсказка: зная типичные «правила» конкретного человека, можно предугадать его шаги, словно читая короткую инструкцию, написанную в глубинах его подсознания.
4. Пространственная память и моторные шаблоны
Человеческий мозг — это не только хранилище мыслей, но и навигатор, в котором записаны целые маршруты. Пространственная память позволяет нам уверенно ориентироваться там, где мы бывали десятки или сотни раз. Она работает даже тогда, когда человек устал, волнуется или действует почти на автомате.

К пространственной памяти тесно примыкают моторные шаблоны — привычные телесные движения, которые тело выполняет без участия сознания. Вспомните водителя, который после долгого рабочего дня едет домой и вдруг обнаруживает себя на знакомой улице, хотя специально не планировал туда сворачивать. Руки сами повернули руль, ноги сами нажали педали — словно тело «помнило» путь лучше головы.
С преступником происходит то же самое. В состоянии стресса он может не строить хитроумных планов, а просто поддаться этим автоматическим паттернам. Ноги сами несут его по знакомой тропинке, руки привычно открывают калитку во двор, где он когда-то жил. Это похоже на странный ритуал: человек вроде бы скрывается от погони, но на деле повторяет свой обычный маршрут, потому что так спокойнее, так привычнее.
Для следователя знание о пространственной памяти и моторных шаблонах — важная подсказка. Ведь именно они объясняют, почему беглец иногда выбирает путь, который кажется нелепым и нелогичным: он идёт туда не потому, что это рационально, а потому что его тело и память диктуют привычное движение.
5. Пережитый опыт и травма.
Наше прошлое никогда не исчезает бесследно. Особенно то прошлое, которое связано с сильными эмоциями — страхом, риском, угрозой. Если человек однажды уже скрывался или прятал что-то, его мозг фиксирует эту ситуацию как своеобразный сценарий выживания. И в следующий раз, оказавшись в похожих обстоятельствах, он почти автоматически воспроизводит знакомый алгоритм.
Психологи называют это эффектом прошлого успеха. Сработало однажды — значит, сработает и снова. Даже если обстоятельства изменились, даже если место уже под наблюдением, человек будет тянуться к проверенному варианту, словно к спасительной соломинке.
Особенно ярко этот механизм проявляется у тех, кто пережил сильный стресс или травму. Память о том, как удалось уйти от погони, спрятать оружие или избежать наказания, оставляет глубокий отпечаток. Подсознание хранит его как «правильное решение» и в критический момент подталкивает к его повторению.
Для винтроппера это важный ориентир. Если известно, что подозреваемый когда-то уже использовал конкретный район, заброшенное здание или укрытие в лесу, велика вероятность, что именно туда он вернётся снова. Логика тут вторична: прошлый успех перевешивает рациональные доводы. И в этом — ещё один ключ к пониманию поведения преступника в пространстве.
6. Идентичность и стиль поведения: психологический автограф
У каждого человека есть свой неповторимый способ двигаться по миру. Один идёт смело и напористо, словно пространство обязано расступиться перед ним. Другой — осторожен, обходит всё стороной, словно каждую секунду ждёт подвоха. Третий действует хитро, словно кошка, прокрадывающаяся между тенями. Всё это — не случайные особенности, а отражение психологического профиля.
Идентичность и стиль поведения формируют своеобразный «психологический автограф», который человек оставляет в пространстве. Уровень тревожности, степень импульсивности, потребность в контроле — всё это напрямую влияет на то, какой маршрут он выберет, где решит укрыться, как будет обходить препятствия.
Например, импульсивный преступник может спрятать вещь в первом попавшемся месте — под мусорным баком или в кустах — просто потому, что ему не хватило терпения искать лучшее укрытие. А вот человек с высоким уровнем контроля и осторожности выберет точку, куда добираться дольше, но зато она будет идеально замаскирована и тщательно продумана.

Для винтроппера важно учитывать эти индивидуальные черты. Ведь именно они придают маршруту преступника «почерк», делают его уникальным. Иногда именно этот почерк помогает предугадать следующий шаг. И тогда пространство перестаёт быть хаотичным лабиринтом — оно превращается в текст, где каждая строчка написана рукой конкретного человека.
Таким образом, метод винтроппинга учит смотреть на пространство иначе. Это не просто работа с радиусами и секторами поиска, где от точки Х прочёсывают территорию по всем правилам топографии. Он предлагает иной подход: «Встаньте на его место. Почувствуйте, что он чувствует. Пройдите в его ботинках. И тогда вы поймёте, куда он пошёл и зачем».
Эта мысль звучит просто, но за ней стоит целая система. Мы уже видели, что поведение человека в пространстве определяется когнитивной картой, эмоциональными якорями, привычными эвристиками, моторными шаблонами, отпечатками прошлого опыта и личным стилем. Всё это вместе формирует своеобразный «психологический след», который преступник оставляет в реальности так же неизбежно, как следы обуви на земле.
Винтроппинг показывает: пространство — это зеркало внутреннего мира. И если научиться читать это зеркало, можно не только догнать преступника, но и понять его мотивы, его решения, его страхи. А значит — приблизиться к самой сути человеческого поведения в экстремальных обстоятельствах.
На первый взгляд винтроппинг выглядит как свежая и модная методика, прямиком из арсенала британских спецопераций. Тут и капитан Уинтроп с его ирландскими тайниками, и строгий австралийский аналитик Дэвид Китли, оформивший идею в научные термины. Всё это создаёт ощущение современности и новизны.
Но если немного отойти в сторону от англоязычного антуража и прислушаться к сути метода, мы вдруг обнаружим знакомые черты. Всё это уже было. Более того, десятилетиями практиковалось в отечественной криминалистике под иным названием — «метод рефлексии».
Что такое метод рефлексии?
Метод рефлексии — это психологический инструмент, суть которого проста и гениальна одновременно: следователь старается воссоздать ход мыслей преступника. Представить, что он видел, что чувствовал, чем руководствовался. Почему выбрал именно это место преступления, а не другое? Почему действовал так, а не иначе? Где мог оставить след или спрятать орудие?
Формально метод включает несколько шагов: мысленную реконструкцию ситуации глазами преступника; анализ его личностных особенностей, привычек, уровня интеллекта; попытку уловить логику решений в условиях дефицита времени и сильного стресса; определение «точек привязки» — мест, которые для преступника кажутся удобными, привычными, безопасными.
Развиваться этот подход начал ещё в советской криминалистике и юридической психологии в 1960-х годах. Одним из его пионеров был выдающийся учёный А. Р. Ратинов. Он одним из первых ясно сформулировал: следователь не может оставаться лишь сухим наблюдателем, он должен «вживаться» в психику подозреваемого, чтобы понять его действия.
Если сравнить винтроппинг и метод рефлексии, становится ясно: они словно родные братья, разделённые разными языками и эпохами. В обоих случаях ключевой принцип один и тот же: преступник — это не абстрактная фигура, а человек со своими страхами, привычками, логикой и ограничениями. И если следователь способен хоть на шаг войти в его сознание, он получает мощнейший инструмент анализа.
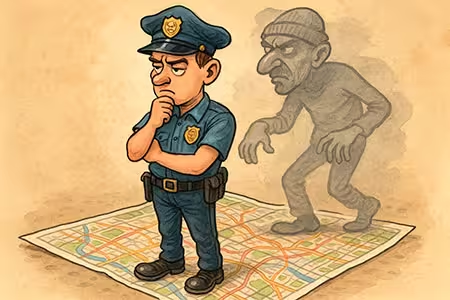
Признание этого родства нисколько не умаляет заслуг ни британских оперативников, ни австралийского психолога. Напротив, оно подчёркивает универсальность человеческой психики: в разных странах, под разными названиями исследователи приходили к одному и тому же открытию.
И есть ещё один важный момент. Отечественная школа криминалистики и юридической психологии имеет глубокие традиции. Многие идеи, которые сегодня в мире подаются как «революционные прорывы», для нашего следователя знакомы уже давно. Просто назывались они иначе, звучали без англоязычного блеска, но суть оставалась той же.
Метод винтроппинга — это не фокус и не мистическая догадка. Это структурированная, последовательная работа, в основе которой лежит психологический анализ поведения человека в пространстве. Следователь, владеющий этим методом, не просто ищет улики, как пылесос — каждую пылинку. Он пытается проникнуть в саму логику преступника. Для этого он на время превращается в актёра, который играет роль — но играет её не ради аплодисментов, а ради понимания. Он берёт на себя чужую маску, чтобы через неё увидеть мир глазами того, кто скрывается.
Использование винтроппинга проходит через ряд этапов — и каждый из них приближает следователя к разгадке.
Этап первый. Анализ места преступления как психологической карты.
Всё начинается со сцены преступления. Следователь внимательно изучает, где именно произошло событие, как устроено пространство вокруг: какие дороги ведут к дому, какие тропинки уводят в сторону, где камеры, а где тёмные дворы. На первый взгляд — всё то же, что и при обычном осмотре места происшествия.
Но здесь важна особая оптика. Следователь смотрит на пространство не как на набор объектов, а как на проекцию сознания преступника. Каждая дверь, каждый забор, каждый перекрёсток — словно отпечаток его мыслей и страхов. Где он чувствовал себя в безопасности? Где мог испугаться? Что для него было барьером, а что — выходом?
Таким образом, место преступления превращается в своеобразную карту психики. И чем внимательнее следователь вчитался в эту «карту», тем больше шансов, что он увидит не только то, что уже случилось, но и предугадает, куда преступник пошёл дальше.
Этап второй. Определение психологического портрета преступника по его поведению.
Когда сцена преступления изучена как карта, следующий шаг — понять, какая рука её чертила. Здесь следователь обращается к психологии и профайлингу.
Он словно задаёт себе серию наводящих вопросов:
— Насколько преступник был готов рискнуть?
— Действовал ли он импульсивно или холодно и расчётливо?
— Видна ли в его действиях склонность к порядку и симметрии?
— Проявил ли он предприимчивость или действовал по простым шаблонам?
Ответы на эти вопросы помогают выстроить психологический портрет, который затем становится ключом к разгадке его пространственного поведения.
Например, организованный преступник с высоким уровнем тревожности вряд ли оставит улики на виду. Он выберет укромное, надёжное место, где нечасто бывают люди, — и будет готов потратить больше времени, лишь бы чувствовать себя в безопасности.
А вот спонтанный, импульсивный тип поступает совсем иначе: он может в панике выбросить нож в первую попавшуюся мусорку или сунуть окровавленную рубашку под ближайший куст, даже не задумываясь о последствиях.
Таким образом, каждый поступок, каждая мелочь в поведении — это штрих к портрету. И чем яснее этот портрет, тем точнее можно предсказать, как человек будет вести себя дальше, куда он свернёт, что посчитает «надёжным», а что — «опасным».
Этап третий. Мысленное моделирование.
На этом этапе следователь окончательно перестаёт быть сторонним наблюдателем и пробует войти в «шкуру» преступника. Это не формальная дедукция, где шаг за шагом выстраиваются логические цепочки. Это эмпатическое моделирование — попытка почувствовать мир так, как его чувствовал тот, кто скрывался.
Следователь мысленно возвращается в тот самый момент выбора: «Куда идти? Где спрятать? Кто может увидеть?» Он задаёт себе вопросы, на которые нет готовых формул:
— «Чего бы я боялся, окажись я на его месте?»
— «Что показалось бы мне безопасным, знакомым, нейтральным?»
— «Где я почувствовал бы контроль, а где — угрозу?»
Это своеобразная интеллектуальная игра в прятки, где цель — не столько мгновенно «найти», сколько уловить настроение, ритм, дыхание ситуации. Следователь пробует прожить этот опыт как актёр, повторяющий за противником его шаги, эмоции и сомнения.
Именно здесь раскрывается суть рефлексивной реконструкции: не просто анализ фактов, а попытка пережить чужую логику. Для этого используются механизмы, о которых мы уже говорили: теория разума, позволяющая представить мысли другого; аффордансы — то есть восприятие возможных действий, которые «подсказывает» среда; и прочие психологические инструменты.
В этот момент пространство перестаёт быть картой улиц и переулков. Оно становится ареной внутреннего мира преступника, а следователь — единственным зрителем, которому позволено увидеть спектакль чужих страхов и привычек.
Этап четвёртый. Выбор приоритетных точек поиска.
После того как следователь «примерил» на себя образ преступника и прошёл с ним его маршрут в голове, наступает время перехода от воображения к практике. Теперь необходимо сузить пространство поиска и выделить ключевые точки.
Так появляется особая карта — психогеографический профиль. Её можно представить как своеобразную «тепловую карту вероятности», где зоны повышенной значимости окрашены ярче, а второстепенные остаются в тени. Это не абстрактный круг радиусом два километра от места преступления, а тщательно отобранные точки: заросший угол парка, старый гараж, водосток у дороги, кусты вдоль шоссе, заброшенный сарай или ржавая крышка люка.
Главное в том, что эти объекты рассматриваются не как географические отметки, а как эмоциональные и поведенческие якоря. Для обычного прохожего — это просто дерево или пустырь. Но для преступника именно здесь может возникнуть чувство безопасности или контроля. Он действует не по строгой логике, а так, как подсказывают ему его страхи, привычки и внутренние «карты мира».
И вот здесь особенно важна тонкость работы следователя. Его задача — увидеть смысл там, где его будто бы нет. Разглядеть в неприметной остановке не просто железный павильон, а возможный «укрывающий» объект. Увидеть в кустах у трассы не зелёную кучу листвы, а потенциальную «точку привязки». Именно этот взгляд, способный соединить психику и пространство, превращает обычный поиск в точное и целенаправленное расследование.
Этап пятый. Проверка объектов.
Когда мозаика догадок и наблюдений сложилась в цельную картину, наступает самый важный момент — переход от психологии к практике. Теперь нужно проверить те самые точки, которые кажутся наиболее вероятными. Но главное — это не слепой поиск и не метод тыка. Это целенаправленное движение с внутренним ощущением: «Он бы пошёл именно сюда».
Следственная группа начинает работу: прочёсывает заброшенные сараи, обследует кустарники вдоль дороги, вскрывает подозрительные гаражи или проверяет старые люки. Иногда к делу подключаются кинологи, дроны, подводники или специалисты по инженерным коммуникациям — всё зависит от того, где винтроппинг указал «горячие точки».
И если метод сработал, находка становится тем самым подтверждением: пистолет, зарытый под деревом; телефон, спрятанный в мусорном баке; тело, оставленное в овраге. Эти находки — материальное доказательство того, что психологическая реконструкция была верна.
Каждый такой успех усиливает веру в метод: винтроппинг превращается не в красивую теорию, а в рабочий инструмент, который помогает следователю там, где обычные методы буксуют.
Таким образом, винтроппинг — это не магия и не игра случая. Это пошаговый процесс, в котором воображение и аналитика работают вместе. Следователь превращает место преступления в карту психики, создаёт портрет преступника, мысленно проживает его маршрут, выделяет ключевые точки и затем проверяет их на практике.
Так рождается метод, где психологический след становится не менее важным, чем отпечаток пальца. А главное — он показывает: чтобы поймать преступника, иногда нужно хоть на миг стать им.
Одним из самых тонких, но вместе с тем мощных инструментов винтроппинга является лингвистический анализ речи преступника. То, как он говорит, какие слова выбирает и даже на чём случайно спотыкается, — всё это может оказаться не менее важным, чем отпечатки на месте преступления. Речь в данном случае — не просто поток слов, а своеобразная психогеографическая карта, через которую проступает внутренний мир говорящего.
Что именно анализируют?
Метафоры и сравнения. Мы часто выдаём себя в образах, сами того не замечая. Человек, который говорит: «давит как камень на груди» или «как будто всё завалено», на самом деле выдаёт способ, каким он воспринимает реальность. У преступника такие метафоры могут указывать на укрытия или направления: «спрятано глубоко», «никуда не деться» — это может быть не просто фигура речи, а подсознательная отсылка к его действиям.
Лингвистические утечки (linguistic leakage). Это оговорки и странные фразы, выскользнувшие из-под контроля. Человек может говорить о чём-то нейтральном, но внезапно упомянуть «ямку», «вниз», «в кустах» — хотя вроде бы разговор об этом не шёл. Эти мелочи могут стать теми самыми трещинами, через которые наружу просачивается истина. Классический пример — дело Криса Уоттса, убившего своих дочерей: его оговорки и словесные уклонения в интервью стали важным сигналом для следствия.
Термины, связанные с направлением и расстоянием. Слова «далеко», «вниз», «через», «под» или «за» — могут показаться пустыми, но для аналитика это нити, ведущие к пространственной логике преступника. Такие лексические маркеры часто отражают реальные координаты, зашитые в подсознании.
Избегание темы. Иногда важнее не то, что человек говорит, а то, чего он упорно не говорит. Если преступник постоянно «обходит» определённое направление или место, не желает уточнять детали, — это тоже сигнал. Психика защищается от боли или страха, но именно в этой защите кроется подсказка.
Почему это работает?
Секрет прост: человек не может полностью контролировать язык, особенно когда находится под эмоциональным давлением. Подсознание всё равно прорывается наружу — в метафорах, в оговорках, в странных паузах. Для следователя это и есть та самая нить Ариадны, которая способна вывести из лабиринта лжи и увести прямиком к правде. А в случае с преступником — иногда и к телу жертвы.
Традиционные методы поиска в уголовных расследованиях опираются на принцип «наиболее вероятного действия». Логика проста: если тело нужно спрятать, преступник унесёт его туда, куда проще дойти; сбросит вниз по склону, где унесёт вода; затащит в заросли, где спрячет растительность. В учебниках это называется поисковой логистикой: оптимальный маршрут, минимальные усилия, максимальная скрытность.

Но человек — не машина и не шахматный компьютер. Человек, а тем более преступник, действует не только логикой. Его шаги окрашены эмоциями: страхом, яростью, желанием доказать своё превосходство или даже странным чувством символической победы над миром. Эти эмоции выстраивают собственный «психологический рельеф» — внутреннюю карту, по которой он движется.
Именно поэтому винтроппинг предлагает сместить оптику. Он говорит: смотри не только на то, где удобно спрятать, а на то, где преступник считает правильным спрятать. Это место может быть связано с его воспоминаниями, страхами или даже с глубинными, едва осознаваемыми желаниями.
Получается, у следователя в руках оказываются две карты.
— Первая карта — географическая. На ней склоны, кусты, овраги, мосты и парки. Она отвечает на вопрос: «Где логично искать?»
— Вторая карта — психологическая. На ней эмоции, привычки, память, мания контроля, старые «точки привязки». Она отвечает на вопрос: «Где преступник решил спрятать?»
И именно переход от первой карты ко второй порой открывает путь к находке. Благодаря этому в ряде случаев удавалось обнаружить тела, которые неделями оставались невидимыми для традиционных поисков.
Чтобы лучше понять, как это работает в реальности, обратимся к одному из примеров использования винтроппинга на практике.
Пример из следственной практики: дело Криса Уоттса
Крис Уоттс — типичный с виду американец из пригорода. Работа, жена, двое маленьких дочерей, уютный дом в Колорадо. Но за фасадом нормальности скрывался разрыв, о котором знали немногие: Уоттс вёл двойную жизнь, переживал эмоциональный кризис и хотел разорвать отношения со старой семьей ради новой любви. Когда его жена Шэнанн вернулась домой после поездки, он задушил её и двух дочерей. Потом вывез тела и спрятал их.
Сначала Уоттс заявил, что жена пропала вместе с детьми. Он вёл себя на камеру сочувствующе, записывал обращения, участвовал в поисках. Но вскоре его показания начали трещать. Именно здесь вступает в дело винтроппинг, как способ реконструкции психологии и поведения убийцы для поиска спрятанных тел.
Места как отражение сознания
Куда преступник прячет тела своих жертв? Ответ может многое рассказать о его внутреннем состоянии. В случае с Уоттсом он вывез тело Шэнанн и дочерей на нефтяное месторождение Anadarko, где работал. Это было не просто технически удобно — это было его пространство, знакомое, контролируемое, где он чувствовал себя уверенно.
Метод винтроппинга позволяет интерпретировать такие действия не как логистические, а как психологические. Уоттс не просто искал место подальше. Он выбрал место, где чувствовал власть, где он «царь и бог» — в одиночестве среди цистерн, вдали от чужих глаз. Туда, где он каждое утро начинал свой день.
Он не просто избавлялся от тел. Он как бы помещал их в свою «зону контроля», в место, где они больше не могли «мешать» его новой жизни. Жена была зарыта в неглубокой могиле, дочери — помещены по одной в отдельные нефтяные резервуары. Это был ужасающе символичный акт разделения, который отражал разобщённость его сознания и попытку разорвать эмоциональные связи.
Реконструкция: как бы он думал?
Следователи, использовавшие метод реконструкции поведения, поставили перед собой вопрос:
«Куда бы поехал человек, который хочет спрятать тела, но при этом боится случайных свидетелей и предпочитает действовать в привычной обстановке?»
Ответ: туда, где он чувствует себя в безопасности.
Это предположение позволило сузить зону поиска — и она привела именно к площадке Anadarko. Здесь помогли и поведенческие сигналы (его маршруты, привычки, уровень тревожности), и языковые маркеры — он избегал упоминания конкретных мест, но говорил о «работе» как о чем-то очищающем и спасительном. Всё это позволило составить психологическую карту, по которой шёл следователь.
Дело Криса Уоттса действительно показательно не только с точки зрения пространственного поведения, но и с точки зрения лингвистического анализа, который стал частью винтроппинга и позволил обнаружить скрытые смыслы в его речи.
Слова как следы: лингвистическая зацепка в деле Криса Уоттса
Когда следователи анализируют поведение подозреваемого, они смотрят не только на маршруты, но и на язык. То, как человек говорит о преступлении, о жертве, о себе — может выдать гораздо больше, чем кажется. Именно это и произошло в деле Криса Уоттса.
Во время одного из допросов, когда его еще не обвинили, Уоттс описывал свои ощущения, и в его речи проскользнула странная фраза. Он сказал, что в тот день, когда пропали его родные, он ждал, что сейчас дверь откроется и девочки бросятся к нему:
«I feel like the girls are gonna barrel rush me...»
Для неподготовленного слушателя это звучит как обычная метафора: «налетят на меня», «накинутся». Но опытный следователь и психолог, знакомый с методами винтроппинга, обратили внимание на эту фразу. Почему?
Потому что она не случайна. В языке преступника, особенно когда он напряжён, часто всплывают непроизвольные образы, связанные с местом преступления или сокрытия тел.
Внимание привлекло слово "barrel" — «бочка». Оно не характерно для подобного выражения, его можно было бы заменить десятками других. Но именно "barrel" оказалось ключевым.
Когда позже начали обследовать нефтяные резервуары компании Anadarko Petroleum, где работал Уоттс, тела девочек были найдены внутри бочек, наполненных нефтью.
Фраза «barrel rush me» оказалась неосознанной утечкой — его подсознание выдало место преступления через метафору. Это классический пример того, как язык может «проговориться», даже если человек старается всё скрыть.

Пример ясно показывает, что простое сокрытие — это редко лишь попытка избавиться от улики. Чаще в нём есть эмоциональный и даже символический подтекст. Место, которое выбирает преступник, оказывается своеобразным откровением: оно говорит о том, где он чувствует власть и безопасность, где пространство становится «его» территорией.
И здесь психология оказывается важнее физики. Склоны, овраги или густые кусты могут казаться удобными укрытиями, но они ничего не значат, если человек не воспринимает их как надёжные. Для него важнее чувство внутреннего контроля, чем объективная скрытность.
Особую роль играет и лингвистика. Маршрут преступник может продумать, поведение — просчитать, но речь ускользает от полного контроля. Именно слова, сказанные в стрессовой ситуации, способны выдать истинные ориентиры — намёки на места, образы или эмоции, связанные с преступлением.
Поэтому следователь, который умеет читать не только пространство, но и язык, получает дополнительный ключ к внутренней карте преступника. И этот ключ порой открывает те двери, которые остаются закрытыми для традиционных методов поиска.
Итак, в чём же сила винтроппинга?
Прежде всего, в том, что это вовсе не магия и уж точно не альтернатива криминалистике. Это инструмент — тонкий, психологический, позволяющий заглянуть в мир преступника и нащупать те дорожки, по которым он мог пойти. Винтроппинг особенно ценен там, где привычные методы перестают работать, где поиски заходят в тупик и где обычная логика бессильна.
Его уникальность в том, что он не даёт готовых ответов. Он учит задавать правильные вопросы: Чего боялся преступник? Что для него значило «своё» пространство? Какое место казалось надёжным, а какое — угрожающим? Эти вопросы создают новые перспективы для поиска, открывают невидимые прежде маршруты и позволяют следователю выйти за рамки механического прочёсывания местности.
Винтроппинг — это искусство смотреть на карту не глазами географа, а глазами человека, который по ней шёл. И именно поэтому этот метод становится для следователя не просто приёмом, а своеобразным способом мышления.
Ведь в расследовании главное не количество собранных улик, а умение увидеть в них смысл. И как показывает практика, именно правильные вопросы, заданные в нужный момент, чаще всего приводят к разгадке.
Если обычное расследование ищет отпечатки ног на земле, то винтроппинг позволяет увидеть отпечатки мыслей, оставленные в пространстве.




