Учебная литература по юридической психологии
ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯТашкент, 2025.
ТЕРРОРИЗМ НА СТОРОНЕ ЗЛА

Террористы устраивают жуткое представление, захватывающее наше воображение.
Юваль Ной Харари
Толпа на вокзале гудела, как потревоженный улей. Кто-то опаздывал на поезд, кто-то судорожно искал свободное такси, кто-то просто стоял и ждал. Внезапно — громкий хлопок, и всё вокруг застыло. Люди сначала онемели от непонимания, а затем пространство разорвал вопль: «Бомба!» Паника. Беспорядочное движение. Страх, в секунду ставший заразным, как вирус.
Так выглядит терроризм в действии. Это не просто взрыв или нападение. Это тщательно рассчитанное вторжение в психику общества, где каждое слово, каждый крик, каждый шаг направлен на одно — посеять страх. Сделать его глобальным, ежедневным, хроническим.
В XXI веке терроризм превратился в одну из самых острых проблем человечества. Его формы стали изощрённее, цели — более размытыми, а исполнители — всё менее похожими на шаблонных «злодеев». Сегодня к технике устрашения прибегают не только политические фанатики, но и одиночки с психическими отклонениями, и организованные преступные группировки, и радикализованные бизнесмены, для которых жизнь других — просто разменная монета.
Терроризм больше не ограничен рамками политики или религии. Это — психологическое оружие массового поражения. Он действует там, где наиболее уязвим человек: в его ощущении безопасности, в его доверии к другим, в предсказуемости повседневной жизни.
Что делает террориста террористом? Почему кто-то решается взять в руки оружие и пойти убивать незнакомцев? Почему он уверен, что его жестокость оправдана? Мы до сих пор не знаем всех ответов. Потому что не научились видеть в терроризме не только преступление, но и психологическое явление. За внешне единым термином скрываются разные механизмы, разные мотивы, разные типы людей.
Сегодня недостаточно просто бороться с последствиями. Чтобы по-настоящему противостоять террору, нужно понять его психологическую природу. Понять, как формируется мышление террориста, как работает страх в обществе, как можно предупредить радикализацию и разрушить саму логику террора.
Современный терроризм — это не просто преступление. Это психологическая операция. Его цель — не столько убивать, сколько деморализовать. Террорист действует не ради трупов, а ради страха. В психологическом плане современный террор имеет ряд отличительных черт.
Во-первых, террор проявляет себя как психотронное оружие массового поражения. Главное оружие террориста — вовсе не бомба и не автомат. Его оружие — страх. Причем страх коллективный, масштабный, социальный. Терроризм сознательно и методично создаёт атмосферу тревоги, паники и ужаса — не среди жертв, а среди тех, кто остаётся жив. Его цель — не просто уничтожить, а напугать всех остальных.
Каждый теракт — это демонстрация силы, направленная не на жертву, а на зрителя. Именно поэтому террористы всегда стараются, чтобы об их акциях узнали как можно больше людей. Им важно, чтобы общество почувствовало себя уязвимым. Чтобы страх стал ежедневным фоном жизни. Это и есть главная психологическая задача терроризма — дестабилизировать не стены, а сознание.
Во-вторых, акции терроризма совершаются с особой жестокостью, причем это изначально планируется их организаторами. Теракт — это не вспышка гнева, не преступление по неосторожности и не эмоциональный срыв. Это тщательно спланированное, выверенное и циничное действие. Подготовка может занять месяцы, а то и годы. Используются псевдолегальные прикрытия, технические новшества, сложные маршруты финансирования.
С психологической точки зрения, такая преднамеренность говорит о крайне высокой степени вовлеченности, мотивации и устойчивой деформации личности. Террорист — это не просто радикал, это человек, принявший насилие как норму. Его жестокость — осознанный выбор, а не срыв психики.
И хотя такая тщательная подготовка теоретически даёт шанс на предупреждение теракта, на практике всё осложняется скрытностью и конспирацией. Террористы умеют исчезать из поля зрения.
В-третьих, современный терроризм держится на моральном нигилизме. Для него не существует понятий «гуманизм», «мирные жители» или «невинные». Человеческая жизнь — не ценность, а инструмент. И не важно, идёт ли речь о религиозных фанатиках, ультраправых, ультралевых или просто «разочарованных в системе» — у всех них есть общее: отказ от общечеловеческой морали.
На психологическом уровне это всегда катастрофа: система ценностей разрушена, а личная убеждённость в правоте — абсолютна. Именно из этой смеси и рождается то, что можно назвать «идеологическим хладнокровием».
Следующая особенность – публичность, как необходимое условие совершения теракта. Теракт без публики — не теракт. Это правило, которое террористы знают лучше всех. Без внимания СМИ, без резонанса, без общественной реакции теракт теряет смысл. Именно поэтому они делают всё, чтобы общество услышало их громко: угрозы, видеообращения, публичные «взятия на себя ответственности» — это часть сценария.
Терроризм — это не только насилие, но и шоу. Иногда с кровью, иногда с шантажом, но всегда — с целью попасть в заголовки. Даже если реальные цели остаются недостижимыми, само упоминание группы в новостях, обсуждение её требований, паника в обществе — уже промежуточная победа.
Ну и, конечно, террор немыслим без союза с медиа. В наш век каждый террорист мечтает о телекамере. Или хотя бы о прямом эфире в интернете. Им нужен зритель. Чем больше — тем лучше. Современный терроризм активно взаимодействует со СМИ и цифровыми платформами: сливаются манифесты, публикуются кадры нападений, а иногда — целые видеоигры, имитирующие атаки.
Это не случайно. Террористам важно не просто напугать — важно, чтобы страх был зафиксирован, показан, распространён. Чтобы каждый почувствовал: «Завтра это может случиться со мной».
С точки зрения психологии, это максимально циничная, но эффективная форма коммуникации. Терроризм — это сообщение, написанное кровью. И оно адресовано всем.
С учётом сказанного можно дать следующее обобщённое определение терроризм как психосоциального феномена: терроризм — это особая форма насилия, основанная на систематическом применении страха в качестве инструмента давления на общество, с целью достижения политических, религиозных или иных целей, путём совершения демонстративных актов жестокости и устрашения.
С психологической точки зрения, терроризм — это практическое выражение радикализма, экстремизма и фанатизма, доведённых до предела. Это проявление деструктивной мотивации, когда идея важнее жизни, а чужая боль — это просто средство донесения послания.
Чтобы эффективно бороться с терроризмом, его нужно уметь понимать. А понять его невозможно, если не учитывать: у террора множество лиц, и каждое из них несёт в себе особую мотивацию, особую психологию и особую опасность. Политика, религия, идеология, месть, фанатизм или даже иллюзия «высшей миссии» — всё это может стать топливом для насилия. Террорист — не всегда безумец. Иногда — это холодный расчёт, а иногда — жертва, превращённая в орудие.
Политический терроризм — это, пожалуй, самый «классический» его вариант. Его движет желание изменить власть, навязать обществу новую политическую повестку, иногда — дестабилизировать страну. Убивают не ради убийства — а ради громкого сигнала. Чем страшнее и публичнее акт, тем выше его «информационная стоимость». Такой терроризм питается конфликтами, революционными идеями, ненавистью к «режиму» и романтизацией борьбы. Его психология — смесь идеализма и озлобленности, в которой человек начинает считать насилие допустимым способом достижения «справедливости».
Религиозный терроризм, особенно в его сектантских формах, — явление не менее пугающее. Его оружие — не только бомбы, но и вера, превращённая в культ смерти. Человек, готовый убивать во имя «спасения души», особенно опасен: он не боится наказания, не ведает сомнений. Манипуляция здесь тонка: через обряд, через символику, через псевдодуховную экзальтацию. Убивать «неверных» в этом контексте — не преступление, а якобы «священный долг». И чем моложе и внушаемее человек, тем легче его втянуть в этот фанатический водоворот.
Экотерроризм и технотерроризм — менее известные, но нарастающие формы радикализма. Это протест против научно-технического прогресса, загрязнения окружающей среды, вмешательства в природу. Здесь нередко доминируют мотивы отчаяния и гнева. Для исполнителей характерна обострённая тревожность, высокий уровень альтруистической мотивации и готовность к самопожертвованию — ради «спасения человечества».
Кибертерроризм — относительно новая форма, где агрессия и страх распространяются не через бомбы, а через клавиатуру. Атаки на информационные системы, взломы, блокировки инфраструктуры и распространение дезинформации в интернете могут вызывать не меньший ужас, чем физическое насилие. Психологический портрет кибертеррориста — это зачастую интеллектуально развитый, социально изолированный человек, склонный к компенсаторной агрессии. Здесь уязвимость общества — в его цифровой зависимости.
Биотерроризм представляет собой ещё более пугающий сценарий. Использование вирусов, бактерий, токсинов в террористических целях порождает страх перед невидимым врагом. Этот тип террора особенно сильно воздействует на общественную психику: страх заражения, утраты контроля над телом, невозможность защититься делают биотерроризм мощным инструментом психологического давления.
Самопожертвование и шахидизм — отдельная тема. Террорист-смертник — не просто фанатик. Часто это человек, прошедший через длительную психологическую обработку, потерявший личностную автономию и растворившийся в коллективной идее. Здесь особую роль играет символическая награда: посмертная слава, обещание «вечной жизни», одобрение семьи и общины. Отдельные психологи сравнивают такие акты с религиозным ритуалом — кульминацией тотальной идентификации с группой.
Подростковый терроризм — тревожная тенденция последних десятилетий. Молодые радикалы становятся не просто исполнителями — порой они сами выбирают путь насилия. Интернет стал ареной вербовки, а подростковая уязвимость — благодатной почвой. Им предлагают простые ответы на сложные вопросы: кто виноват, как изменить мир, зачем ты живёшь. А главное — предлагают роль: роль героя, борца, мученика.
Когда ребёнок становится бомбой
Это не метафора. Это страшная реальность. Один из самых циничных приёмов террористов — использование детей и подростков в качестве смертников. Мальчикам дарят игрушки и дают гранаты. Девочкам обещают райскую награду и надевают пояса со взрывчаткой. Нередко это сироты или дети из разрушенных семей. Их не просто вербуют — их буквально ломают: изолируют, подменяют понятия, лишают идентичности.
Психологическая трагедия в том, что ребёнок не всегда до конца понимает, что с ним делают. Для него игра легко становится реальностью. А если вдобавок он хочет заслужить любовь, доказать свою силу или «искупить» что-то — его можно склонить к чему угодно.
Разрушить эту цепочку можно только ранней профилактикой, восстановлением среды, возвращением чувства защищённости и смысла. Когда ребёнок верит, что он важен и любим, он не становится оружием в чужих руках.
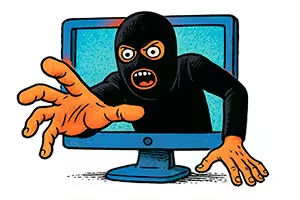
Радикализация через интернет стала новым фронтом в борьбе с террором. Через YouTube, TikTok, Telegram и другие платформы пропагандисты распространяют «героические» образы борцов, мифологизируют насилие и создают чувство причастности к великой миссии. Особенно уязвимы подростки и молодые люди, находящиеся в поиске идентичности и признания.
Таким образом, современный терроризм — это не только бомбы и выстрелы. Это — идея, продвигаемая в массы с психологической точностью хирурга. Борьба с терроризмом невозможна без понимания того, что движет этими людьми и как работает их логика. Ведь чтобы остановить злу, надо уметь заглянуть в его душу.
Понять природу терроризма невозможно без попытки вглядеться в тех, кто его совершает. Кто они — люди, готовые сеять смерть и страх? Какие внутренние импульсы подталкивают их к насилию? Почему одни проходят мимо чужой боли, а другие ставят себе целью причинить её максимально эффективно?
Анализ личности террориста — задача крайне непростая. Эти люди, как правило, недоступны для психологов и исследователей. Эмпирических данных мало: чаще всего они основываются не на личных интервью, а на фрагментах допросов, данных спецслужб, воспоминаниях и текстах самих террористов, если таковые сохраняются. Всё это затрудняет построение точного и обобщённого психологического портрета. Однако по мере накопления материала всё же удаётся очертить общие черты и, главное, выделить основные мотивы, подталкивающие людей к террористической деятельности.

Деньги, как ни странно, в списке первые. Хотя кажется, что террористы действуют только по идейным соображениям, это не всегда так. Для многих терроризм — способ заработка. Особенно в странах с низким уровнем жизни, слабым государственным контролем и высоким уровнем криминализации. Некоторые организации платят участникам за акты насилия, другие обеспечивают их семьи. И для определённой категории людей террор становится работой — опасной, но оплачиваемой. За каждым идеологическим лозунгом может скрываться вполне прозаичная мотивация.
Идеология: когда идея важнее жизни. Впрочем, идеологические мотивы — одни из самых устойчивых. Человек может вступить в террористическую организацию, потому что её ценности совпадают с его мировоззрением. Иногда радикальные взгляды формируются задолго до участия в конкретных актах — в семье, в школе, под влиянием религиозных учений, в интернете. Убеждённый террорист видит в себе не преступника, а солдата. А теракт — не акт насилия, а «миссия», «наказ» или «обязанность» перед группой. Именно такие люди чаще всего становятся организаторами и идеологами, поскольку искренне верят, что действуют ради высшего блага.
Террор как инструмент «изменения мира». Есть и другой тип — революционеры с бомбой в руке. Их мотив — преобразовать мир, устранить несправедливость. Они часто не воспринимают себя как фанатиков, скорее — как борцов с системой. Для них террор — это не безумие, а «единственный действенный способ» сломать гнилой порядок. Их захватывает сам процесс «борьбы» — планирование, шифры, заговоры, символическое противостояние. Такие люди, как правило, обладают высоким уровнем активности и определённой харизмой. Их психология — это психология действия.
Жажда власти через страх. Особую группу составляют те, кто ищет власть через насилие. Им важно чувствовать свою силу, доминирование. Это часто люди с травмой унижения или с комплексами, которые они компенсируют через контроль над другими. Убивая или запугивая, они ощущают свою значимость. Здесь насилие становится языком утверждения: «Я существую, потому что ты боишься».
Террор как «интеллектуальное приключение». Есть и неожиданная категория — тех, кого терроризм просто увлекает. Им интересен процесс: планирование, шпионаж, скрытность, технологическая сложность. Это люди, склонные к авантюрам и интеллектуальной игре. У них может отсутствовать чёткая идеология, но их тянет сам риск, граничащий с преступлением. В такой деятельности они видят некое подобие профессии: с адреналином, вызовами, инженерией страха. Психологи сравнивают этот тип мотивации с игровым или исследовательским поведением в экстремальных формах.
Товарищеские и эмоциональные мотивы. Иногда в терроризм идут «за компанию». Кто-то мстит за погибшего родственника, кто-то хочет быть рядом с другом, кто-то — под давлением окружения. Особенно это касается подростков и молодых людей, для которых принадлежность к группе важнее личных убеждений. Они заражаются настроением, эмоциями, общими лозунгами. Здесь включаются механизмы групповой динамики, социального подражания и эмоциональной зависимости.
Самореализация через разрушение. Пожалуй, самый парадоксальный мотив — поиск самореализации. Это не всегда про деньги или идеологию. Иногда — это стремление человека заявить о себе, обрести «вес» в глазах других, почувствовать, что он способен изменить мир. Когда не остаётся законных способов влияния, когда отсутствует признание, террор может стать способом самоутверждения. В этом случае террористический акт воспринимается как акт полной самоотдачи. Но за этим кроется глубокий внутренний надлом: неспособность жить иначе, кроме как через деструкцию.
Психопатология: когда стремятся к смерти. Наконец, нельзя забывать о патологических случаях. В редких, но особенно трагичных ситуациях террорист стремится не только убить, но и сам погибнуть. Это может быть выражение суицидальных тенденций, депрессии, психоза. В случае террористов-смертников психологи часто фиксируют нарушение инстинкта самосохранения. Такие люди либо полностью отождествляют себя с идеей, либо настолько отчуждены от жизни, что смерть становится для них актом освобождения.
Как видно, мотивация террориста — это не один ответ, а целый спектр. Где-то действует циничный расчёт, где-то — фанатичная вера, а где-то — психологическая травма и утрата смысла. Именно поэтому борьба с терроризмом невозможна без глубокого понимания человеческой психики. Чтобы разрушить структуру насилия, нужно сначала понять, что делает её возможной — внутри самого человека.
Можно уничтожить склад с оружием, разрушить логово террористов, арестовать лидера группировки. Но останется главное — тот, кто готов взять в руки бомбу или нажать на курок. Психология терроризма начинается с психологии личности. И понять эту личность — значит сделать шаг к профилактике будущих трагедий.
Исследователи давно пытаются выстроить психологический портрет террориста. Это сложная задача: таких людей крайне редко удается изучить напрямую. Большинство наблюдений — это результат анализа судебных дел, допросов, переписки, записей, интернет-активности. Но всё же за десятилетия работы психологи выявили ряд устойчивых личностных черт, которые с высокой вероятностью можно считать предрасполагающими к террористической деятельности.
Одной из ключевых черт личности террориста является глубокий внутренний конфликт. С одной стороны — завышенные ожидания от мира и себя. С другой — жестокая реальность, где эти ожидания не оправдываются. Такой человек может быть не глуп, не беден и даже не одинок — но у него есть ощущение, что он лишний. Его личная формула звучит примерно так: «Я хороший, мир — плохой». Это убеждение позволяет ему оправдать любые действия, даже самые чудовищные. Оно становится моральной бронёй, через которую не проходит ни сочувствие, ни сомнение.
Многие террористы испытывают трудности с самоидентификацией. Они не понимают, кто они такие, какое у них место в мире, и зачем они вообще живут. В этом состоянии террористическая группировка становится для них якорем. Она дает ощущение принадлежности, цели, простую и понятную структуру: друг — враг, добро — зло, «свои» — «чужие». В ней они находят психологическую стабильность, которая до этого отсутствовала в их жизни.
Почти всем террористам свойственна повышенная агрессивность, склонность к конфликтам и насилию. Это не обязательно психопатия, но чаще всего — акцентуация характера. То есть, у них есть вполне нормальные черты личности, просто выражены они резко, ярко, а иногда — разрушительно. Такие люди часто ощущают себя в состоянии перманентной угрозы и, как следствие, живут с всегда включенной оборонительно-наступательной системой. Любая неудача, любой конфликт — это повод атаковать.
Удивительно, но путь в терроризм начинается не с ненависти, а с пустоты. Это часто люди, выросшие в неблагополучных семьях, пережившие тяжелые утраты, отвержение, бедность, унижение. У них нет устойчивой работы, целей, перспектив. Они чувствуют себя выкинутыми на обочину жизни. И тогда появляется желание вернуть себе чувство значимости — пусть даже через разрушение.

В психологическом портрете радикально настроенного человека нет ничего таинственного — набор штампов, который встречается так часто, что иной раз диву даёшься: ну как, спрашивается, такие разные люди умудряются быть так похожи?
Начинается всё обычно с мировосприятия: мир вокруг представляется тёмным, злым и враждебным. Всё несправедливо, все кругом виноваты, а сам он — вечная жертва обстоятельств. С таким багажом, конечно, трудно идти по жизни легко и свободно.
Дальше — комплекс неполноценности. Человек чувствует себя ущербным, недооценённым, лишённым заслуженного внимания. Неуверенность в себе у него такая стойкая, что хоть в рамку ставь. И вот эта шаткая самооценка ищет костыль — и находит его в «своей» группе, которая обещает: «Ты особенный, ты избранный, просто остальные этого не понимают».
А чтобы сомнений не возникало, всё рационализируется идеологией. Любой поступок, даже самый нелепый, можно оправдать высокой целью: «я не подрался, я боролся за правду». Самооправдание — искусство, которым такие персонажи владеют в совершенстве.
Эмоционально же это вечный подросток: максималист, категоричный, ни шага назад. Никаких компромиссов, ведь «компромисс» в их лексиконе — это синоним предательства. А если что-то не получается? Тогда включается любимый механизм: всё зло в мире — это происки других. Проекции, как у киноаппарата: собственные ошибки и слабости удобно приписывать «системе», «властям» или «врагам народа».
Фанатичная преданность лидеру или идее — обязательный ингредиент. Тут даже думать не нужно: лидер сказал — значит, так оно и есть.
Образование и интеллект? Ну, у идеологов ещё может быть какая-то база. Но рядовые исполнители чаще всего отличаются весьма скромным умственным багажом. Их задача проста: слушать и выполнять.
Добавим к этому изолированность от общества и хроническую озлобленность, выросшую из травмирующего опыта. Человек замыкается на себе, перестаёт видеть других как живых людей с чувствами, а мир для него превращается в арену личных обид.
Отсюда и нетерпимость к инакомыслию: любое сомнение, любое «а может быть, ты не прав?» воспринимается как вражеская атака. И свобода выбора для них — вовсе не ценность, а угроза стройной, пусть и фантастической, картины мира.
И вот так постепенно вырисовывается образ человека, для которого мир делится на «своих» и «чужих», а любое инакомыслие — преступление. Трагикомично, но в этом коктейле личных комплексов, обид и идеологических лозунгов нет ничего уникального. Скорее, это классическая формула, по которой печатаются радикалы — словно под копирку.
Эта система черт — не окончательный «портрет преступника», а каркас, на который накладываются личные истории, внешние обстоятельства и идеологические влияния. Важно понимать: терроризм не рождается в пустоте. Он вырастает из соединения индивидуальных особенностей с конкретной социальной средой.

Личность террориста — это не застывшая картина. Человек может изменяться. Влияние следствия, суда, изоляции, контакта с психологами, новых жизненных условий может привести к внутренним сдвигам — как в сторону осознания, так и в сторону ещё большей радикализации.
Однако сам акт террористической агрессии, как правило, совершается тогда, когда определённые личностные черты — отчуждение, гнев, обида, фанатизм — достигают критической точки и находят выход в насилии. Терроризм, таким образом, не просто преступление, а форма реализации внутреннего состояния, болезненного и разрушительного.
Когда мы говорим о террористе, нельзя рассматривать его в изоляции. Почти всегда за ним стоит группа — организованная, замкнутая, наполненная своей логикой, своими правилами, своей реальностью. И понять эту реальность — жизненно важно. Ведь именно внутри группы личность террориста формируется, укрепляется и, в конечном счете, становится готовой к действию.
Терроризм — это почти всегда дело не одного человека. Даже если теракт совершает одиночка, в большинстве случаев за ним стоит система: кто-то его радикализировал, подготовил, снабдил, вдохновил, направил. Самому бросить вызов целому государству, обществу, цивилизации — трудно. Но в составе группы человек получает поддержку, уверенность, мотивацию и чувство принадлежности.
Террористическая организация восполняет то, чего не хватает самому человеку — ценности, структуры, смысла, идентичности. Она становится местом, где одиночка чувствует себя частью «великого дела». В группе нерешительность одного перекрывается решимостью другого. Один дает идею, второй — ресурсы, третий — выполняет. Становится легче преодолеть страх, преодолеть внутренние сомнения, легче идти до конца.
Для многих вступление в такую группу — это не просто шаг в сторону преступления. Это, как ни парадоксально, способ сохранить или восстановить целостность личности. Человек, потерянный в социальной жизни, внезапно ощущает, что он нужен, что он важен, что он часть «миссии».
Как устроена террористическая группа?
Психологическая динамика внутри террористической группы — это всегда особый микромир, замкнутый, напряжённый и нестабильный. Такие группы редко существуют долго: чаще всего они собираются под конкретную задачу — и исчезают после её выполнения. При этом участники нередко даже не знают друг друга по-настоящему. Кто-то отказывается ещё до исполнения задуманного — кого-то подводит совесть, кого-то — страх, а кому-то просто становится неудобно или неинтересно.
Сплочённость в таких группах, несмотря на внешнюю демонстрацию единства, оказывается весьма условной. Здесь нет настоящего «братства» — скорее, это временный союз по необходимости. Каждый исполняет строго определённую функцию, а личность отступает на второй план. Главное — чтобы человек умел делать нужное дело и был готов действовать. Такая структура делает участников менее чувствительными к чужой боли и ответственности: ведь они — лишь «винтики» в большом механизме.
Внутренний мир членов группы часто полон противоречий. Многие искренне считают себя борцами за справедливость и освобождение. Но одновременно понимают: их действия противозаконны и опасны. Чтобы справиться с этим внутренним конфликтом, они прибегают к рационализациям: «мы жертвы», «нас вынудили», «мы защищаем идею». А поддержка внутри группы помогает закрепить эту версию реальности.
Этические нормы здесь упрощаются до примитивного деления: свои — правы, чужие — враги. Всё остальное — неважно. Главное — быть лояльным и не подводить «своих». Именно это становится основным моральным ориентиром, заменяя привычные категории добра и зла.
Иерархия в таких группах гибкая, но при этом жесткая. Формальный лидер может и не быть харизматичным — достаточно, чтобы он был чуть опытнее или смелее. Его власть часто держится не столько на уважении, сколько на страхе или идеологическом давлении.
И, наконец, общее ощущение временности и обречённости. Члены группы живут в состоянии постоянной тревоги: всё может закончиться завтра — смертью, провалом, арестом. Это формирует особую психологическую атмосферу, где напряжение становится фоном, а жесткость — нормой.
Жесткая изоляция от внешнего мира — важнейшая черта террористической группы. Это и физическая конспирация, и психологическая. Посторонние — угроза. Тот, кто уходит, становится потенциальным предателем. Страх перед утечкой часто сильнее привязанности или дружбы. Поэтому внутри такой группы быстро вырабатываются механизмы давления: контроль, подозрительность, ритуалы лояльности, идеологические тесты.
Стоит группе замкнуться в своём маленьком мирке — и законы психологии начинают работать, как часы. Изолированная среда — это теплица, где радикальные идеи растут быстрее любых огурцов на даче у бабушки.
Первое, что бросается в глаза — групповое мышление. Тут сомнение считается предательством, а вопрос «А может, мы не правы?» звучит как «А может, я продался врагу?». Атмосфера напоминает старый анекдот: «У нас единогласие полное — даже те, кто против, уже за».
Дальше включается групповая поляризация. Если сначала собрались люди с более-менее умеренными взглядами, то через месяц они уже с пеной у рта доказывают, что компромисс — это дьявольская уловка, а враги должны быть уничтожены до последнего. Любой коллектив, запертый в своей идеологической банке, начинает бродить и закисать, как квашеная капуста: чем дольше стоит, тем резче вкус.
На закуску идёт смещение ответственности. Здесь никто ни за что не виноват лично. «Это не я кидал камень, это мы вместе так решили». Такая коллективная безответственность — отличная штука: удобно, когда можно прятаться за спиной «общего решения».
И, наконец, туннельное восприятие. Всё, что находится за пределами группы, перестаёт существовать. Мир становится чёрно-белым, а любая реальность вне этого «туннеля» кажется либо ложью, либо провокацией. Зачем смотреть в окно, если лидер уже объяснил, как выглядит «правильный мир»?
Так и получается, что маленькая замкнутая группа превращается в эхо-камеру, где слышно только собственный голос, усиленный многократным повторением. А если кто-то попробует заглянуть внутрь и сказать: «Ребята, вы слегка перегибаете», — на него посмотрят, как на пришельца с другой планеты.
В таких условиях влияние семьи, друзей, авторитетов извне резко снижается. Психологическая броня замыкается. Все внутри — «свои». Все снаружи — «враги».
Почему человек, живший, казалось бы, самой обыкновенной жизнью, вдруг оказывается готовым убивать ради идеи? Как он попадает в террористическую организацию, и почему остается в ней, даже когда становится свидетелем жестокости и насилия? Ответ на эти вопросы лежит в сфере социально-психологических механизмов.
Основанием для объединения террористов в группу чаще всего становится совпадение мотивов — идеологических, личностных, криминальных или мстительных. Для одних это способ «отомстить системе», для других — путь к признанию и власти. Террористическая группа, как ни парадоксально, оказывается для своих участников средством удовлетворения внутренних потребностей: от желания быть «кем-то важным» до стремления спрятаться от собственного чувства неполноценности.
Исследователи выделяют ряд психологических механизмов, которые способствуют втягиванию в террористическую деятельность:
Идеологическая обработка. Различные психотехнологии — от внушения до настоящего «промывания мозгов» — позволяют разрушить критическое мышление и внедрить идею «высшей миссии». Особенно эффективны они в отношении людей, находящихся в кризисе, с неустойчивой самооценкой или ощущением, что «жизнь потеряла смысл».
Групповая идентификация. Человек, чувствующий себя ничтожным, внезапно получает возможность быть частью «избранных» — тех, кто, по их мнению, способен изменить мир. Это придаёт смысл и значимость собственной жизни.
Деиндивидуализация. В группе возникает единая картина мира, в которой нет места сомнению. Присутствует чёткое деление на «своих» и «чужих». Всё, что исходит от «наших», — правильно и оправдано. Всё, что говорят «чужие», — ложь и враждебная пропаганда. Критическое мышление подавляется, а любое несогласие воспринимается как предательство.
Конфликт с законом и обществом. Немалую роль играют личный криминальный опыт, конфликты с полицией, ощущение несправедливости со стороны государства. В таких случаях террористическая идеология становится формой рационализации уже существующей агрессии.
Личные связи. Зачастую решающим фактором становятся друзья, родственники или знакомые, уже состоящие в террористической группе. Человека «втягивают», сначала неофициально, затем — необратимо.
Вовлечение в деятельность террористической группы может происходить неожиданно стремительно. Один из известных случаев произошёл в Европе, где молодой студент, переехавший учиться в другой город, оказался в психологически уязвимом состоянии — он чувствовал себя одиноким, потерянным, испытывал трудности в учёбе. Через социальные сети он познакомился с людьми, обещавшими «настоящую цель в жизни» и поддержку. Сначала это выглядело как участие в онлайн-дискуссиях о политике и религии, но затем его пригласили на «семинар» за город. Там за несколько дней его окружили вниманием, укрепили чувство принадлежности и направили на путь «борца». Он даже не успел понять, в какой момент перешёл грань: сначала — «просто активист», потом — курьер, а через пару месяцев ему вручили «последнее задание». Вовлечённость происходила не через страх, а через манипуляции, дружбу, постепенное стирание личных границ.
В этой сплочённой иерархичной структуре центральную роль играет лидер. Он — не просто командир или идеолог. Он — магнит, вокруг которого строится вся психологическая динамика группы. Его идеи становятся групповой доктриной, его взгляды и оценки — безусловным ориентиром, его харизма — источником эмоциональной вовлечённости.
Лидер может быть фанатиком, мечтающим о всемирной революции, а может — хладнокровным манипулятором, использующим идеологию как прикрытие. Но чаще всего он — и то, и другое. Именно он формирует у участников образ врага, задаёт рамки допустимого насилия, оправдывает жертвы и управляет коллективными эмоциями. Авторитет лидера позволяет трансформировать отдельные агрессивные импульсы в согласованные действия группы.
Лидер террористической группы — это вовсе не хаотичный фанатик с безумными глазами (хотя и такие встречаются), а персонаж, обладающий вполне узнаваемым набором психологических черт. Портрет получается одновременно предсказуемый и до смешного шаблонный.
Прежде всего — идейная убеждённость. Его фанатизм настолько силён, что, кажется, если бы завтра лидер объявил, что Земля плоская и держится на трёх верблюдах, он смог бы убедить в этом половину своей группы. А если не убедить, то хотя бы запугать.
Самооценка у него, как правило, зашкаливает. Честолюбие подогревает ощущение собственной избранности: «Я не просто человек, я — вождь, пророк, светоч для заблудших». Скромность в этом наборе качеств отсутствует напрочь.
И, надо признать, организаторские способности у него действительно есть. Такой персонаж умеет выстроить структуру, распределить роли, собрать вокруг себя команду. Правда, команда эта напоминает не столько сообщество единомышленников, сколько маленький культ, где лидер — безальтернативный центр вселенной.
Коммуникативная активность — ещё одна сильная сторона. Он много говорит, часто убеждает, иногда даже вдохновляет. Но вместе с тем сам легко поддаётся внушению, если слова совпадают с его верой. Его умение слушать строго выборочное: если ты вторишь его идеям — ты мудрец; если возражаешь — ты предатель.
Склонность к авторитаризму в таких условиях расцветает пышным цветом. В группе нет места сомнениям: только «да» и «есть, товарищ командир». Всё остальное объявляется ересью.
А эрудиция? Да, он может цитировать книги, философов, священные тексты. Но стоит заметить, что кругозор у него ограничен, как забор дачного участка. Всё, что выходит за рамки идеологии, попадает в категорию «ненужного знания» или «вражеской пропаганды».
В итоге складывается образ человека, который чувствует себя мессией, действует как диктатор и мыслит как фанатик. Ирония в том, что при всей своей претензии на уникальность, каждый такой «лидер» удивительно похож на всех остальных — словно их собирают на одном и том же заводе по производству «харизматичных пророков».
Такой лидер может быть одновременно вдохновляющим и опасным. Он знает, как управлять эмоциями, как разжигать ненависть, как превращать сомневающегося в готового к самопожертвованию бойца.
Что касается лидеров таких групп, то интересен случай с одним из организаторов подпольной ячейки на Ближнем Востоке. Он не обладал яркой харизмой, не был религиозным авторитетом и редко выступал публично. Его роль держалась на опыте, расчетливости и способности распределять роли. Внутри группы он казался «своим», но принимал все ключевые решения — кого отсеять, кого послать, как сформулировать послание. Его власть держалась не на любви, а на чувстве опасения и безальтернативности: «Если не он — всё развалится». Позже выяснилось, что он сотрудничал с несколькими радикальными группами одновременно, почти не рискуя собой. Его сила была в управлении, а не в личной отваге.
Впрочем, без последователей даже самый харизматичный лидер остаётся одиночкой. А потому главный вопрос всё же остаётся прежним: почему кто-то становится уязвимым перед его влиянием? Ответ на него — в следующем разделе, где мы подробнее поговорим о типологии участников террористических групп.
Невозможно вести эффективную борьбу с терроризмом, если мы продолжаем мыслить в категориях «все террористы одинаковы». Это опасное упрощение. Как и любая сложная организация, террористическая структура имеет разветвлённую иерархию. А значит, в ней задействованы люди с разными характерами, мотивациями и психологическими профилями.
Террористическая деятельность формирует свои поведенческие шаблоны. Люди не просто приходят в такую систему — они встраиваются в неё, «вживаются» в роли, и с течением времени приобретают типичные черты. Поэтому рассмотрим авторскую типологию, опирающуюся на ролевую позицию личности в террористической группе.
I. Организаторы-вдохновители
Это вершина террористической иерархии. Лидеры, определяющие цели и стратегию, вдохновляющие и направляющие. Их не интересует конкретный взрыв — они работают над созданием системы, идеологии и инфраструктуры террора.
а) Идеологи-фанатики
Наиболее опасный тип. Эти люди не просто верят — они знают, что правы. Слепая убеждённость, мессианский комплекс, вера в свою непогрешимость. Часто — высокий интеллект, блестящие коммуникативные навыки, харизма. Они не кричат — они заражают.
б) Непосредственные организаторы
Холодные стратеги в тени. Они не склонны к публичным выступлениям, не требуют славы. Их интересует точный расчёт, организация логистики, безопасность операций. Если идеологи жгут, то они строят.
в) Демонстративный тип
Фигура боевого вожака. Образ героического борца, нарочито смелого, вызывающего. Любуется собой, презирает слабость, тяготеет к ярким жестам. Часто ведёт за собой — но не из глубины, а с вершины личного тщеславия.
II. Обеспеченцы
Им всё равно, за что воевать. Главное — чтобы платили. Это логисты, вербовщики, оружейники, технические специалисты. У них нет идеологии — только функциональность. Но именно они — «рабочая сила» террора.
а) Вербовщики
Психологически гибкие, общительные, умеют нравиться. Их задача — находить уязвимых, внушаемых и вовлекать. Играют на чувствах, травмах, одиночестве. Уязвимое звено — их легче всего обнаружить, ведь они вынуждены быть «на людях».
б) Разработчики терактов
Профессионалы с военным прошлым. Иногда — бывшие бойцы спецслужб, разведчики, сапёры. Их навыки бесценны, а ценности — размыты. Если в государстве они стали «лишними» — переходят к тем, кто платит. Нередко — мстят за обиды, возраст, обнулённую карьеру.
в) Педагоги-воспитатели
Инструкторы, идеологи, наставники. Те, кто учит, тренирует, внушает, промывает мозги. Бывшие преподаватели или офицеры. Сами редко идут в бой, но «лепят» тех, кто идёт. Внутренне порой всё ещё считают себя учителями — только сменили «учебник».
г) Технологи
Без них — ни взрывов, ни оружия, ни документов. Тихие специалисты по подделке бумаг, транспорту, связям. Часто даже не осознают, кому именно помогают. Порой работают из страха, а иногда — просто за деньги, не задавая вопросов.
III. Исполнители
Это нижняя ступень иерархии — те, кто нажимает на кнопку, закладывает заряд, идёт в смертельную миссию. Часто — люди, раньше не помышлявшие о терроризме, но по тем или иным причинам втянутые в систему. А потом «втянувшиеся» в неё настолько, что становятся опаснее организаторов.
а) Агрессивный тип
Их влечёт насилие. Им нравится причинять боль, внушать страх, разрушать. Террор — не миссия, а способ получения удовольствия и самоутверждения. Среди них — и безжалостные «отморозки», для которых человек — не больше, чем мишень.
б) Авантюристический тип
Не идеолог, а игрок. Вовлечён в террор не ради идеи, а ради адреналина. Маньяк риска, жаждущий славы, пусть и в формате «я — преступник номер один». Часто действует в одиночку, что делает его особенно трудным для выявления.
в) Фанатичный тип
Пожалуй, самый пугающий. Он готов умереть. Его не остановить ни мольбами, ни угрозами. В основе — религиозный или идеологический экстаз, слепая убеждённость. Это не исполнитель — это жертва, превратившаяся в оружие.
г) Зомбированный тип
Идеальный винтик. Без собственной воли, но с чужой программой. Внушаемый, дисциплинированный, не рефлексирующий. Человек-автомат, обученный на задачу. В быту — неприметный, подавленный. На задании — точен и бесстрашен.
д) Мстительный тип
Террор — форма личной мести. За смерть близких, за унижение, за несправедливость. Их движет боль, обида, ненависть. Среди них — много женщин и подростков, особенно в культурах, где месть становится социальной нормой.
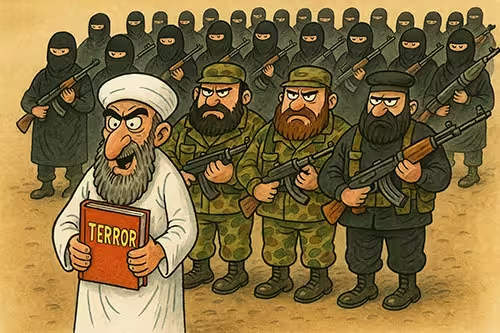
Такая типология — не просто академическое упражнение. Это ключ к пониманию природы террора. Ведь бороться можно только с тем, что по-настоящему понял.
Среди всех форм современного террора есть одна, которая пугает больше прочих. Это — теракт, совершённый террористом-смертником. Он не требует отхода, не заботится о последствиях, не боится разоблачения. Его не интересует жизнь после преступления — потому что жизни у него больше не будет. Он сам становится оружием.
Применение смертников в последние десятилетия приобрело широкое распространение. И это — не просто жест отчаяния. Это стратегический расчёт. Такой метод оказывается куда эффективнее ракетных ударов — и по точности, и по психологическому эффекту, и по дешевизне исполнения. Всё, что нужно террористам, — один человек, готовый умереть, и взрывное устройство. А результат — страх, паралич, эффект грома в тишине.

За каждым смертником стоит целая группа. Это не романтический образ одинокого фанатика, решившего уйти из жизни эффектно, словно на бис. Наоборот: смертник — это не самостоятельная фигура, а скорее инструмент. Его роль — финальный акт чужого замысла, тщательно подготовленного, срежиссированного и продуманного. Идеология подогревает, эмоции накручивают, организация направляет. В итоге получается человек-бомба, который сам по себе вряд ли когда-нибудь решился бы на подобное.
Почему эта страшная схема работает? Причин несколько, и все они одновременно циничны и прагматичны.
Во-первых, атаки смертников почти всегда приносят массовые жертвы. Здесь не нужны сложные схемы побега или планы эвакуации: смертник сработает до конца — и в этом, как ни жутко звучит, его «надёжность».
Во-вторых, информационный эффект. Камеры включаются мгновенно, и вот уже мировые новостные ленты пестрят заголовками: «Смертник взорвал себя…» Для организаторов это медийный джекпот: никакая реклама не сравнится по охвату с таким «символом решимости».
В-третьих, смертники могут действовать с пугающей точностью. Им можно выбрать идеальное время, самый уязвимый момент, и они не будут отвлекаться на такие «мелочи», как отход или спасение собственной жизни.
Четвёртое преимущество — именно в этом: им не нужен путь отхода. Всё рассчитано на один-единственный эпизод, и в нём они максимально «эффективны».
И, наконец, пятое: они не попадут в плен и никого не раскроют. В руках врага не окажется ни списков, ни схем, ни имен организаторов. Всё, что останется после атаки, — это дым, руины и телевизионные кадры.
Таким образом, смертник — это не герой и даже не фанатик в чистом виде. Это пешка, сознательно превращённая в орудие. Всякий раз, когда кто-то говорит о «добровольной жертве», стоит помнить: за этой фигурой всегда стоит режиссёр с кулисами, сценарием и холодным расчётом.
Что движет ими?
Спектр мотивов широкий: фанатизм, ненависть, месть, ощущение бессилия или наоборот — стремление почувствовать себя всемогущим. Эти люди делят мир на чёрное и белое. Они не ищут компромиссов — они идут умирать, чтобы доказать свою правоту.
Но главное — смертники не рождаются, их делают. И делают по технологии: через идеологическую промывку, психологическое давление, внушение. Часто — под личным руководством «духовного наставника».
Важно понимать: не каждый, кто рискует погибнуть в теракте — смертник. Настоящим смертником можно считать только того, кто сознательно совершает действие, результатом которого обязательно станет его собственная смерть.
На основе многолетнего анализа преступлений, совершённых в разных странах мира, исследователи выделяют шесть основных типов террористов-смертников:
- Террорист-зомби. Его сознание разрушено. Он действует под влиянием внушения, гипноза, психотропных веществ. Иногда не понимает, что делает. Управляем, словно марионетка. Такой человек может быть и психически здоров, но чаще — с уже нарушенной психикой. Его действия — продукт чужой воли.
- Террорист-мститель. Особенно много среди них женщин, потерявших близких, лишившихся семьи. Это — «чёрные вдовы», шахидки, движимые яростью и болью. Их цель — отомстить. Взорвать не просто объект, а собственную обиду. В их сознании гибель врага — акт справедливости.
- Террорист-патриот. Чаще всего — молодой человек с «воспитанной» ненавистью. Он не ищет славы, он верит, что совершает священный подвиг — джихад, борьбу за веру или свободу. У него есть цель, враг и полное моральное оправдание. Это наиболее распространённый тип.
- Террорист за деньги. Циничный, равнодушный к идеологии. Он идёт на теракт ради вознаграждения — обычно для обеспечения своей семьи. Он понимает, что умрёт. Но считает, что таким образом даст детям шанс на лучшую жизнь. Его душа — в залоге у денег.
- Террорист по неволе. Шантаж, давление, угроза близким. Или — вынужденное искупление вины по религиозным нормам. Это — трагический тип. Он не хочет умирать. Но считает, что выхода нет. Его загнали в угол. И он идёт — от безысходности.
- Террорист-маньяк. Психически нестабилен. Часто — одиночка с навязчивыми идеями: переустроить мир, уничтожить «врагов», войти в историю. Мания величия, паранойя, бредовые конструкции. Иногда его идеи подхватывают и направляют — превращая его в смертельно опасное орудие.

Общее между ними — готовность к смерти.
Но, как ни парадоксально, даже смертник не может быть готов к ней всегда.
Вот несколько примеров профилей смертников:
Профиль №1. Женщина в черном
Северный Кавказ, 2004 год.
Женщина лет тридцати. Вдова боевика. Потеряла мужа и двоих детей в ходе спецоперации. Осталась одна — в буквальном смысле и в смысле жизненного смысла. Её «нашли» очень быстро. Сначала — беседы. Потом — деньги. Затем — поездка «на лечение» за границу. Там — курсы, обучение, обработка. Возврат — уже как «невесты Аллаха».
Когда она вошла в вагон московского метро, на ней был хиджаб, в руке — сумка. Взрыв не прогремел. Что-то пошло не так. Её задержали. И в тот же день она попыталась вскрыть себе вены в камере. Врачи спасли. А потом она рассказывала: «Когда ты всё теряешь — остаётся только смерть. Но они обещали, что после смерти я всё верну».
Профиль №2. От студента к смертнику
Лондон — Дамаск — Алеппо.
Молодой парень из обеспеченной пакистанской семьи. Учился в университете, увлекался видеоиграми и поэзией. Но чувствовал себя чужим — ни своим в Великобритании, ни понятным дома. В интернете начал читать радикальные форумы. Его «заметили».
Через частные каналы его вывезли в Сирию. Там — лагерь, наставник, идеология. Парень писал в дневнике: «Здесь я чувствую, что нужен. Я здесь — воин, а не ошибка».
Через полгода он подорвал себя на КПП с солдатами. Погиб сам и убил пятерых.
Специалисты уверены: нажать на кнопку не так просто, как кажется. Даже фанатик колеблется. Даже мститель боится. И, по оценке психологов, человеку нужно не меньше 30 секунд, чтобы морально подготовиться к самоубийству. Эти полминуты — шанс для спецслужб.
Работа с такими угрозами требует высочайшего профессионализма, опыта, точной аналитики и быстрой реакции. Победить здесь можно только знанием — не только техническим, но и психологическим. Потому что в этом противостоянии враг — не техника. Враг — человеческий разум, превращённый в оружие.
Борьба с терроризмом — это не только технологии и оружие, но и тонкая психологическая игра. На одном поле сталкиваются страх и хладнокровие, фанатизм и профессионализм, агрессия и рассудительность. И в этом столкновении решающую роль играет психология.

Люди, противостоящие террору, ежедневно имеют дело с экстремальными ситуациями: угрозой жизни, человеческими жертвами, моральными дилеммами. Не случайно в спецслужбы и антитеррористические подразделения стараются подбирать не просто физически выносливых, но прежде всего психологически устойчивых людей. Они должны уметь действовать в состоянии стресса, принимать решения за секунды — и не ломаться потом.
Мотивация таких сотрудников — это не жажда адреналина и не карьеризм. В лучшем случае — осознанное чувство долга. В худшем — психологическая компенсация: стремление доказать что-то себе или миру. Но как бы ни формировалась мотивация, без психологической подготовки — регулярной, профессиональной — выжить в этой работе невозможно.
Одна из главных дилемм любой спецоперации — мера допустимой силы. Применишь слишком мало — не остановишь. Применишь слишком много — сам станешь тем, против кого борешься. Именно поэтому в современных антитеррористических операциях ключевым стал принцип минимальной достаточности: применять ровно столько насилия, сколько необходимо для нейтрализации угрозы, и ни капли больше.
Этот принцип имеет не только юридическую, но и психологическую ценность. Он снижает риск травматизации самих сотрудников, помогает избежать эффекта «мартира» — превращения террориста в героя — и уменьшает уровень напряженности в обществе. Насилие, даже оправданное, всегда оставляет след. Чем оно меньше — тем меньше последствий.
Терроризм питается страхом. Задача террориста — не просто убить, а сделать так, чтобы испугались все. Поэтому одной из важнейших задач является управление общественным восприятием.
Прозрачность информации, своевременные комментарии, отсутствие паники в СМИ — всё это формирует у общества чувство защищённости. Люди должны знать: ситуация под контролем, есть профессионалы, и самое главное — не нужно впадать в истерию. Паника работает на террориста, спокойствие — на государство.
Важно понимать: в борьбе с терроризмом новости — тоже оружие. А значит, у этой войны есть и медиалиния фронта. Её ведут пресс-секретари, психологи, социологи, а иногда и сами граждане, распространяющие в сети адекватную, а не истерическую информацию.
Террористические организации активно используют психологические приёмы вербовки: обращение к эмоциям, искусственное создание чувства вины, ощущение избранности, обострение чувства несправедливости. Особенно уязвимы — молодёжь, люди с травмами, маргинализованные группы. Вербовка может идти как лично, так и через интернет: в мессенджерах, на форумах, в соцсетях.
Здесь и появляется одно из самых тонких направлений психологического противодействия — контрвербовка. Это слово звучит так, будто придумано для шпионского романа, но на деле оно означает куда более приземлённую вещь: попытку вытащить человека из болота радикальных идей. И речь идёт не только о тех, кого ещё можно остановить на подлёте, но и о тех, кто уже успел «заразиться» фанатизмом.
Методов тут хватает, и все они напоминают скорее ювелирную работу, чем силовое вмешательство.
Начинается всё с психологических бесед. Это не сухое «повторяй за мной, что ты больше не экстремист», а диалог, где шаг за шагом меняется привычный ход мыслей. Здесь используется когнитивная реструктуризация — красивое научное выражение, которое на деле означает простое: «давай посмотрим на мир под другим углом».
Дальше важен возврат в нормальную социальную среду. Ведь радикальная группа держит человека в замкнутом аквариуме, где кроме собственных «рыбок» никто не существует. Контрвербовка же — это открытие окна: у тебя снова есть соседи, коллеги, одноклассники, а не только «братья по борьбе».
Отдельная тонкая работа связана с созданием альтернативных идентичностей. Если раньше он был «воином веры» или «борцом с системой», то теперь ему предлагается другой сценарий: стать хорошим специалистом, студентом, религиозным человеком (но без радикального уклона), в общем, кем угодно — лишь бы не пушечным мясом для чужих целей.
И, наконец, особую роль играют авторитетные фигуры. Это могут быть уважаемые религиозные лидеры, лидеры мнений или даже бывшие радикалы, которые однажды сказали себе: «Хватит». Их слово весит куда больше, чем лекция психолога или чиновника. Ведь кто лучше объяснит тупиковость фанатизма, чем тот, кто сам прошёл через этот тупик?
Контрвербовка — дело тонкое, неблагодарное и требующее огромного терпения. Но без неё все остальные усилия часто превращаются в борьбу с гидрой: отрубишь одну голову — вырастает другая.
Контрвербовка — это фактически индивидуальная психологическая операция, требующая тонкости, терпения и времени. Но её эффективность в долгосрочной перспективе выше, чем любые силовые меры.
Эффективное противостояние терроризму невозможно без понимания того, что перед нами — не только вооружённые группы или одиночки с бомбами, но и сложные психологические феномены. Терроризм живёт в головах: он прорастает через страх, гнев, чувство несправедливости и жажду мести. Он маскируется под идею, идеологию, веру — и умеет быть убедительным.
Противостоять этому можно не только спецназом и законами, но и знанием — глубоким, дисциплинированным, системным. Психология, педагогика, социология, правоведение, криминология — именно их совместные усилия формируют основу современной контртеррористической политики. И чем точнее мы понимаем мотивацию террориста — тем точнее можем её обезвредить.
Умение мыслить — так же важно, как умение стрелять. А иногда и гораздо важнее.
Современная борьба с терроризмом давно вышла за рамки исключительно силовых методов. На передний план выходит работа аналитиков, профайлеров, переговорщиков и психологов. Психология сегодня — полноценное и необходимое звено в системе антитеррористической безопасности.

Психолог в спецслужбах нередко занимается не лечением душ, а их распознаванием. Одна из ключевых задач — оценка потенциальной угрозы на стадии формирования. Это работа с информацией, поведением, стилем общения, биографией. Порой единственная деталь — изменение речевых конструкций в переписке, смена тональности постов в соцсетях, — позволяет своевременно заметить, что человек скользит в сторону радикализации.
Здесь важны знания поведенческой диагностики, навыки контент-анализа, умение замечать когнитивные искажённые паттерны мышления, присущие потенциальным исполнителям. Психолог изучает не только личность, но и её окружение — группу, в которую человек вовлечён, степень идеологического заражения, наличие или отсутствие критичности.
Профайлинг в антитеррористической работе — это не мистика, а систематическая реконструкция возможных черт личности на основании доступных данных. Кто, с какой вероятностью, где и как может совершить теракт? Поведенческий след, речевые маркеры, стиль мышления, биография — всё может иметь значение.
Психологический портрет помогает не только сузить круг подозреваемых, но и выстроить правильную тактику допроса, переговоров, наблюдения. В идеале — остановить до того, как преступление будет совершено.
Монолог специалиста по профайлингу
Из личного дневника. Без даты.
«Он сидел передо мной — худощавый, с пустым взглядом. У него были руки ребёнка и глаза старика. Ему было девятнадцать. Он должен был взорвать автобус. Не потому что хотел. Потому что верил, что так надо.
Я спрашиваю: “Когда вы в последний раз смеялись?” — Он моргает. Долго молчит. Потом хрипло: “Я не помню.”
Понимаете, дело не в религии, не в политике и даже не в ненависти. Всё начинается с пустоты. С ощущения, что ты — никто. Что ты не нужен. Что тобой можно пожертвовать…
Наша работа — не просто вычислить, кто из них опасен. Мы должны научиться распознавать тех, кто готов поверить, что он — инструмент чьей-то священной войны.
Терроризм питается одиночеством, отверженностью, стёртой идентичностью. Он растёт там, где никто не слушает, не видит, не говорит.
И я снова сажусь за монитор. Потому что, может быть, в этот раз я успею — прежде чем кто-то решит, что взрыв может дать ему голос.»
Допрос террориста — одно из самых сложных направлений в работе следователей и психологов. Противник мотивирован, подготовлен, идеологически мобилизован. Он часто не боится смерти и считает, что защищает не себя, а «дело».
Здесь важны тонкие психологические техники. Взлом внешнего образа «бойца за идею» требует профессионализма, терпения и интуиции. Иногда результат даёт не давление, а, наоборот, доверие, неожиданная эмпатия, обращение к сомнениям и внутренним противоречиям.
Хороший специалист знает: идеология — это броня. Но даже в самой прочной броне можно найти трещины.
Психолог работает не только с преступниками, но и с теми, кто оказался по другую сторону взрыва или выстрела. Жертвы терактов, заложники, сотрудники, участвовавшие в операциях, — все они нуждаются в посткризисной помощи.
Это восстановление, стабилизация, возвращение к жизни. Иногда — борьба с виной выжившего, страхом, посттравматическим стрессом. И здесь ключевое слово — доверие. Без него не работают ни методики, ни препараты, ни убеждения.
Работа психолога после теракта — это не «дополнение к расследованию», а полноценный фронт борьбы за человеческое.
Мы живём в эпоху, где угроза террора больше не ассоциируется с далёкими пустынями, закрытыми тренировочными лагерями или экзотическими фанатиками. Она может прийти в любую точку мира — под маской праведной идеи, революционной справедливости или мнимой борьбы за веру. И всё же, несмотря на устрашающий масштаб и психологическую сложность этого явления, важно повторить: терроризм — не приговор обществу. Это не природная катастрофа, не фатальная неизбежность. Это явление, которое можно и нужно побеждать.
Но одна сила, даже самая подготовленная, с этим злом не справится. Только объединение усилий государства, гражданского общества, научного сообщества и, конечно, правоохранительных органов может дать результат. В этой борьбе каждый играет свою роль — от участкового инспектора до педагога в школе, от аналитика спецслужбы до отца подростка, читающего подозрительные форумы.
Нужна не только спецоперация, но и спецкультура. Общество должно сформировать иммунитет к насилию как к способу решения проблем. Психологи, журналисты, учителя, религиозные лидеры — все они способны формировать атмосферу, в которой терроризм окажется чуждым, нелепым, отвергаемым. Только в такой атмосфере невозможно будет «незаметно» завербовать школьника, идеологически обработать студента или превратить одинокого неудачника в живую бомбу.
Важно понимать: террористами не становятся внезапно. Это всегда путь, где каждый шаг — это промах системы, упущение социума, безразличие близких, манипуляции групп, похожих по своей структуре на деструктивные секты. И чем раньше кто-то рядом увидит этот путь — тем больше шансов остановить трагедию до её реализации.
Поэтому знание психологии террориста, психологии группы, механизмов вербовки и идеологической обработки — это не просто академический интерес. Это оружие. Это щит. Это реальный инструмент в руках специалистов и обычных граждан, позволяющий выявлять потенциальные угрозы, разрушать ложные смыслы и сохранять самое главное — жизни людей.




