Учебная литература по юридической психологии
ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯТашкент, 2025.
МОЖНО ЛИ БОРОТЬСЯ С КЛЕПТОМАНИЕЙ?

Из книги «Дары юмора»
Представьте себе картину: солнечный день, модный универмаг, витрины сияют так, что кажется — сам Купидон работает там подсобником, расставляя товары. В отделе аксессуаров задерживается симпатичная женщина. Она берёт в руки стильные солнечные очки: крутит, вертит, будто выбирает, к какому платью они подойдут лучше. Всё как у нормальной покупательницы, только вот финал у сцены выходит нетипичный. Вместо того чтобы вернуть очки на полку, дама, оглянувшись по сторонам и убедившись, что никто не смотрит, аккуратно прячет их в сумочку.
И всё бы ничего, если бы речь шла о студентке с пустым кошельком или воришке с навыками кота Базилио. Но нет. Это Марина — респектабельная дама с хорошей должностью, квартирой в ипотеку (почти выплаченной), мужем, ребёнком и вполне приличным уровнем дохода. Могла бы позволить себе эти очки хоть в трёх экземплярах. И всё-таки рука сама тянется к чужому добру.
Марина — не исключение. Она страдает клептоманией, и это, как ни странно, диагноз. Тут не про бедность и не про жажду наживы. Тут про непреодолимое желание, которое накатывает, как прилив. Сознание шепчет: «Оставь, не надо», но внутри уже свербит: «Бери!».
И таких историй — сотни, тысячи. Люди, которые живут обычной жизнью, платят налоги, водят детей в школу, а потом внезапно оказываются в примерочной с серьгами в кармане или у кассы с неоплаченной безделушкой. В этой главе мы попробуем разобраться: что же толкает людей на такие странные поступки? Это болезнь или просто хитрый способ обмануть общество? И главное — можно ли помочь тем, кто борется не столько с законом, сколько с самим собой
Клептомания — штука загадочная и, если честно, довольно коварная. Это психологическое патологическое расстройство, при котором человек испытывает импульсивное, непреодолимое желание украсть вещи, даже если они ему не нужны, и он может себе их позволить. Это не про бедность, не про жадность и не про желание обзавестись лишней баночкой тушёнки на «чёрный день». Нет, здесь речь идёт о психологическом расстройстве, когда человек испытывает почти физическую тягу к краже. И неважно чего: от дорогого браслета до пластиковой ложечки для мороженого. Сам предмет, как правило, значения не имеет — ценен сам процесс, сама «охота».
Суть проста: внутри клептомана копится особое напряжение. Не то чтобы он сразу встал с утра с мыслью: «Сегодня украду пуговицу — и жизнь наладится!» Всё происходит коварнее. Человек живёт, работает, ходит на концерты и в театр, ужинает с семьёй, а где-то глубоко внутри постепенно нарастает зудящее ощущение. Чем-то похоже на желание почесаться, только чесать нечего. И вот однажды это напряжение достигает пика. И тогда в голове щёлкает тумблер: надо взять. Любым способом. Хочешь — не хочешь, но рука уже тянется к полке.
Важно понять: клептоман отлично знает, что воровать — плохо. Он слышал об уголовном кодексе, видел камеры в магазинах и прекрасно осознаёт, что рискует попасться. Более того, он, как правило, совершенно не жаждет тюремной романтики. Но — увы! — внутренний моторчик мании работает независимо от здравого смысла.
Сам процесс кражи для него сродни эмоциональному взрыву: в момент «удачного захвата» возникает чувство облегчения и даже своеобразная эйфория. Человек ощущает, будто сбросил груз, и некоторое время снова может спокойно жить. Но радость длится недолго. Очень скоро её сменяют мучительное чувство вины и раскаяние. Часто клептоманы даже не знают, что делать с добычей: предмет оказывается ненужным, его выбрасывают или тайком возвращают на место, словно участник странного квеста «сдай обратно».
Казалось бы, теперь он сделал выводы и подобное больше не повторится. Но нет. Проходит время, и круг снова замыкается: напряжение растёт, рука тянется, совесть плачет. И так — по спирали, словно по замкнутому карусельному кругу, с которого нельзя сойти.
Вот как описывает свое состояние и эмоции в момент кражи наша «героиня» Марина:

«Когда я нахожусь в магазине, я начинаю чувствовать себя напряженно. Мои руки потеют, сердце бьется быстрее, и я начинаю чувствовать непреодолимое желание что-то украсть. В этот момент мне кажется, что я не могу контролировать свои действия.
Все происходит очень быстро, как будто я нахожусь на автопилоте. Я вижу что-то, что хочу украсть, и моя рука сама тянется к этому предмету. В голове только одна мысль: «Я должна это взять». Я почти не думаю о последствиях.
Когда я наконец прячу украденный предмет, я чувствую кратковременное облегчение. Как будто груз спадает с плеч. Но это чувство длится недолго, и почти сразу приходит осознание того, что я сделала что-то неправильное.
После кражи я всегда чувствую вину и стыд. Я понимаю, что это неправильно, и боюсь, что меня поймают. Иногда я даже возвращаюсь в магазин, чтобы вернуть украденное, потому что не могу справиться с этим чувством.
Я знаю, что это бессмысленно. У меня нет необходимости красть, я могу позволить себе купить эти вещи. Но в момент кражи я не думаю об этом. Это как непреодолимый импульс, который я не могу контролировать.»
Этот пример очень точно иллюстрирует внутренние переживания и эмоциональное состояние людей, страдающих клептоманией, в момент совершения кражи. Он одно из свидетельств того, что клептомания – это не просто воровство, а глубокое психологическое расстройство, с которым трудно справиться без профессиональной помощи.
Насколько широко распространена клептомания? На первый взгляд — вроде бы не сильно. Ну что там: по данным Американской психиатрической ассоциации, всего-то 0,3–0,6% населения.[1] Звучит почти как статистическая погрешность: три-шесть человек на тысячу. Мелочь, думаете? Но если эту «погрешность» умножить на всё население Земли, то получаются уже 20–30 миллионов людей. А это, на минуточку, больше, чем всё население Австралии. Представьте себе целый материк клептоманов: заходишь в супермаркет — и из каждой тележки по чуть-чуть чего-то недосчитались.
К тому же эти цифры — ещё не полный расклад. Клептомания — штука латентная, скрытая, словно подводная часть айсберга. На поверхности — единицы, кому поставили диагноз. А сколько ещё ходит людей, которые ловко объясняют: «Да я просто задумался и случайно вынес шоколадку за кассу». Или уверяют, что они вовсе не больны, а просто… ну да, иногда «балуют себя бесплатным шопингом». В их логике признаться в краже — ещё куда ни шло, но признаться, что у тебя психическое расстройство, — увольте, это слишком стыдно.
Между тем исследования показывают, что около 5% всех магазинных краж совершают именно клептоманы. Пять процентов — это не так уж и мало, если вспомнить, что в супермаркетах исчезает всё: от жевательной резинки до стиральных машин. В одних только США ущерб от клептоманов ежегодно тянет на полмиллиарда долларов.[2] Полмиллиарда! Это значит, что чьи-то новые дороги, больницы или хотя бы бесплатный Wi-Fi в парках так и не появились только потому, что кто-то не удержался и унёс с полки ненужную кружку с Микки-Маусом.
Интересно, что клептомания чаще встречается у женщин. По статистике, около двух третей страдающих этим расстройством — дамы. Мужчины, конечно, тоже не без греха, но в их случае чаще работает принцип: «Если уж воровать, то сразу машину или сейф, а не упаковку носков». У женщин же клептомания проявляется тоньше: косметика, аксессуары, милые безделушки. Словом, классика жанра.
Начинается это «увлекательное хобби» обычно в подростковом или раннем взрослом возрасте. Вот тут родителям стоит быть особенно внимательными. Если ваш ребёнок слишком часто приносит домой странные «подарки судьбы», которые подозрительно похожи на товары из ближайшего ТЦ, лучше не делать вид, что это «он нашёл». Возможно, пора заглянуть к психиатру или хотя бы к психологу, пока всё не переросло в хроническую страсть к бесплатному шопингу.
Но и это ещё не всё. Клептомания редко приходит одна. Обычно она в компании. В роли её лучших друзей выступают депрессия, тревожные расстройства, зависимости и даже расстройства пищевого поведения. Исследования показывают, что до 70% людей с клептоманией имеют ещё хотя бы одно психическое расстройство. Такой себе «комбо-набор»: украл — и грустно, и тревожно, и мороженое на ночь заесть хочется.
Чтобы лучше понять, как работает клептомания, достаточно взглянуть на реальную (ну или почти реальную) практику.
Вот, например, Татьяна Ивановна, дама почтенного возраста. Пенсия идёт исправно, дети помогают, внуки приезжают с тортом и вареньем. Казалось бы — живи спокойно и радуйся. Но нет! Душа требует приключений. И вот Татьяна Ивановна заходит в супермаркет и «нечаянно» выносит из отдела косметики двадцать три резинки для волос. При этом сама она носит короткую стрижку «под ёжик» и последний раз пользовалась резинкой где-то в 1978 году. Внуки в недоумении: «Бабуля, зачем?» — «А вдруг пригодится».
Или другой случай. Студент Петя. Живёт в общаге, ноутбук у него один, и тот работает от зарядки. Но на полках в комнате аккуратно выстроены ряды батареек — сотни батареек! Петя их тащит из магазинов пачками, хотя ни пульта, ни диктофона, ни даже будильника у него нет. Если спросить — зачем, он искренне не знает. «Просто… захотелось».
А бывают и сюжеты на грани фарса. Женщина в дорогой шубе и с сумочкой за пару тысяч долларов попадается на краже… дешёвого кухонного половника. Следователь разводит руками: «Вы что, не могли себе его купить?» — «Да я даже не готовлю», — смущённо признаётся дама.
Именно в этом и кроется вся абсурдность клептомании. Воруют не ради выгоды, а ради внутреннего «щелчка», ради того самого ощущения облегчения и азарта. Это, как если бы человек играл в лотерею, но выигрывал не деньги, а ненужную кастрюльку или магнитик на холодильник.
И тут возникает самый пикантный вопрос: если клептомания — это болезнь, то значит ли это, что клептоман может спокойно воровать под соусом «а я болею, извините»? Увы, нет. Уголовный кодекс не раздаёт индульгенции за диагнозы. Сам по себе факт наличия клептомании не освобождает человека от ответственности.
Однако есть одно «но». Закон предусматривает возможность освобождения от уголовной ответственности в случае признания лица невменяемым. И вот тут начинается настоящий юридический квест. Нужно доказать, что именно в момент преступления человек настолько находился во власти болезни, что не понимал, что делает, или не мог себя контролировать. Для этого назначается судебно-психиатрическая экспертиза. Эксперты смотрят, не был ли наш герой в состоянии такого «психологического запоя», когда реальность отключилась, а рулит им только мания. Если да — тогда суд может признать его невменяемым и вместо колонии отправить на принудительное лечение в психиатрическую клинику.
Звучит вроде бы гуманно. Но на практике всё далеко не так радужно. Во-первых, доказать невменяемость — дело долгое и малоприятное. Самому клептоману приходится проходить процедуру, мягко говоря, унизительную: сидеть перед строгими врачами и доказывать, что ты не жулик, а больной. Во-вторых, суды очень осторожны: ведь слишком легко обычный воришка мог бы «прикинуться клептоманом», лишь бы смягчить себе приговор.
Поэтому чаще всего всё идёт по упрощённому сценарию. Клептоман попался в магазине? Он краснеет, бледнеет, охотно соглашается тут же расплатиться за похищенное и уверяет охрану, что «задумался и прошёл мимо кассы». И, надо сказать, довольно часто это срабатывает: охрана отчитывает, администратор бурчит, и человека отпускают без вызова полиции. Если же дело всё-таки доходит до административки — максимум штраф.
Но вот где кроется главная проблема: отличить настоящего клептомана от обычного мелкого воришки крайне сложно. Тут нужна кропотливая работа специалистов. Надо собирать информацию, изучать биографию, смотреть, нет ли у человека «коллекции» совершенно ненужных мелочей, украденных безо всякой логики. Потому что одно дело — вынести из магазина кусок сыра, когда очень хочется есть. И совсем другое — стащить пятый подряд брелок в виде утёнка, если у тебя дома уже четыре таких валяются без дела.
В итоге получается парадокс: для суда клептомания — скорее смягчающее обстоятельство, чем оправдание. А для самого клептомана — вечный позорный квест: «Докажи, что ты не вор, а больной». И это, согласитесь, испытание не из лёгких.
Чем же клептомания отличается от банального воровства? На первый взгляд — вроде всё одно и то же: взял чужое и спрятал в карман. Но если присмотреться, различия тут принципиальные.
Во-первых, обычный вор крадёт ради выгоды. Для него кража — это бизнес-план, профессия, иногда даже семейный подряд («сынок, держи отмычку, продолжай традиции дедушки»). Он тянет то, что можно выгодно продать или использовать: деньги, технику, драгоценности. В этом есть своя холодная логика. А вот клептоман… он может украсть что угодно, от спичечного коробка до ненужной рамки для фотографий, и часто сам не понимает зачем. Внутреннее напряжение требует жертвы, а ценность предмета — дело десятое.
Во-вторых, воры готовятся к делу как настоящие инженеры: планируют маршрут отхода, знают, где камера наблюдения, и даже репетируют заранее. Для них кража — это шахматная партия, и они гордятся своей «профессией». Клептоманы же действуют совершенно иначе. Их кражи — это вспышка, импульс. Зашёл в магазин за хлебом, а вышел с набором магнитиков на холодильник. Никаких планов, соучастников или стратегий. Максимум — нервное «надеюсь, не заметят».
В-третьих, результат. У профессионального вора — удовлетворение, чувство «дело сделано». Иногда даже гордость за удачную операцию: «Вот это я ловко обвёл всех вокруг пальца!» Клептоман же после кражи чаще всего испытывает чувство вины и стыда, а радость длится ровно до выхода из магазина. Иногда он даже не знает, что делать с добычей. Украденная безделушка лежит дома подальше в шкафу, где её никто не увидит. Некоторые прячут вещи так надёжно, что потом сами их найти не могут. Другие — дарят друзьям с видом щедрого мецената («Вот, держи, подумал, что это тебе нужнее»). А особо «ответственные» могут и вовсе ночью вернуться и тайком вернуть вещь обратно. Представьте себе картину: человек прячется у витрины, чтобы незаметно «подложить» чужую собственность назад — почти как Санта-Клаус наоборот.
И вот в этом и кроется разница. Клептомания — это не про материальную выгоду, а про внутреннюю бурю. Это, как если бы человек пытался тушить пожар внутри себя чужими спичками. Вор ворует для кошелька, клептоман — для души, точнее, чтобы успокоить собственные нервы.
Высокий социальный статус, как оказалось, вовсе не прививка от клептомании. Можно быть королём, актрисой, певицей или даже кумиром подростков — и всё равно почувствовать непреодолимое желание стащить чужое.

Считается, что самым высокопоставленным клептоманом в истории был французский король Генрих IV. Представьте картину: величественный монарх, венценосный властитель, у которого есть замки, армии и сундуки золота, вдруг с азартом ворует у своих подданных мелочи. Причём, как он сам признавался, получал от этого невероятное удовольствие. Честно говоря, немного странный способ развлечься для короля. Но надо отдать Генриху должное — в отличие от обычных воришек, он всё потом возвращал. Сам объяснял так: «Если бы я не был королём, меня бы непременно повесили». Что ж, с чувством юмора у Генриха всё было в порядке.
Но короли — это дела минувших лет. А что у нас сегодня? Тут список «звёздных клептоманов» выглядит куда красочнее.
Возглавляет его голливудская актриса Вайнона Райдер. В 2001 году её задержали в бутике Беверли-Хиллз за кражу товаров на сумму более $5,000. В корзине «удачного шопинга» оказались дизайнерские наряды и аксессуары, которые ей явно были по карману и без воровства. Но — болезнь есть болезнь. В итоге суд назначил ей три года условно, 480 часов общественных работ, штрафы и, конечно, обязательную психотерапию. Голливуд ахнул: оказывается, даже знаменитости могут страдать той самой болезнью, которую обычно приписывают скучающим домохозяйкам.
Не отставала и Линдси Лохан. Её страсть к дорогим и чужим вещам вошла в хроники жёлтой прессы. Магазины, ювелирные бутики, вечеринки у друзей — всё становилось полем её «маленьких побед». Легенды ходят, что из дома, где побывала Лохан, могло пропасть всё: от ожерелья до хозяйской шубки. В 2011 году её обвинили в краже ожерелья за $2,500. Она отрицала, но суд всё же признал виновной и назначил условный срок. И снова причина — клептомания.
Список можно продолжать долго: Меган Фокс, Роберт Паттинсон, Леди Гага, Аманда Байнс, Бритни Спирс. Одни попадались на мелочах, другие на серьёзных вещах. В любом случае, каждый новый скандал показывал, что клептомания — это не диагноз для «неудачников», а болезнь, которая может коснуться даже тех, чьи лица сияют на обложках глянцевых журналов.
Почему же именно звёзды так часто оказываются в «чёрном списке» клептоманов? Всё просто: жизнь под софитами — это постоянный стресс. Слава, фобии, неуравновешенная психика, эксперименты с запрещёнными веществами и алкоголем — всё это создаёт коктейль, который может взорвать мозг и подтолкнуть к странным поступкам. Кто-то лечит стресс медитацией и йогой, кто-то — шопингом, а кто-то решает совместить оба варианта и «берёт бесплатно».
Но самое интересное — клептомания, как оказалось, вовсе не чисто человеческая «привилегия». Среди домашних питомцев таких экземпляров — хоть клуб по интересам открывай! И, надо сказать, ведут себя они точь-в-точь как люди-воришки: действуют скрытно, азартно и абсолютно без угрызений совести.
Возьмём, например, английского кота по имени Томми, который прославился на весь мир. Его хозяйка, бедная миссис Эли Даффин, вздыхает: «Мне так стыдно перед соседями…» — потому что соседи регулярно становились жертвами «преступлений» её пушистого негодяя.
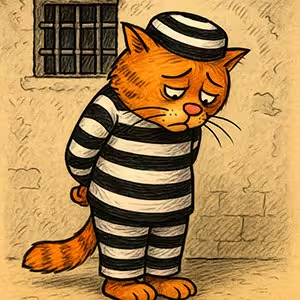
И ладно бы Томми воровал что-то банальное: колбасу, сосиски или хотя бы котлету со стола. Так нет же! Этот кот обладал безупречным вкусом и тягой исключительно к дорогим вещам. Обувь от дизайнеров, модная одежда, аксессуары — вот его любимый улов. Словно у него в голове был встроенный калькулятор стоимости, а в носу — встроенный детектор брендов. Сосед оставил на крыльце новенькие туфли за пару сотен фунтов? Ждите визита «мохнатого коллекционера».
Кульминацией его «карьеры» стал вечер, когда Томми притащил хозяйке мешочек с монетами. Тут уж Эли решила: хватит! Надо проследить и вернуть награбленное владельцам. Но, как говорится, не на того напала. Кот-клептоман, завидев слежку, мигом растворился за соседним забором — только хвост мелькнул! Операция «Верни добро» провалилась с треском.
С тех пор Томми стал настоящей легендой: герой газетных заметок, любимец интернета и, безусловно, позор улицы. Кто знает, если бы в Англии существовал кошачий суд, ему давно бы дали условный срок и обязали на общественные работы — например, носить домой исключительно тапки хозяев.
Насколько воровство развито в живой природе
Вороны-мастера «шопинга». Вороны давно прославились как мастера кражи. Эти чёрные интеллектуалы любят тырить всё блестящее: монеты, ключи, украшения. Есть известный случай в Японии: вороны регулярно вытаскивали провода из уличного освещения — не потому, что им это было нужно, а потому что блестит и приятно таскать в гнездо. Ремонтникам пришлось сдавать «экзамен на терпение», пока они не придумали изоляцию без блеска.
Обезьяны-налётчики. В Индии и Таиланде обезьяны давно стали местными мафиози. Они воруют у туристов очки, телефоны, еду и даже кошельки. Но самое гениальное — они устроили целую «систему выкупа». Украли у вас бутылку газировки? Пожалуйста, можете обменять её обратно на банан. Телефон? Принесите им фрукты, и ваш гаджет вернётся в целости и сохранности. Это не кража, это бизнес по-обезьяньи.
Собаки с «честно добытой» колбасой. Собаки, как известно, любят тащить еду. Но некоторые делают это с размахом. В Германии одна овчарка регулярно «обчищала» местный мясной магазин. Она терпеливо ждала, пока дверь оставят приоткрытой, и уносила батончик колбасы, а то и два. Хозяева сначала удивлялись, откуда у собаки «собственный запас», пока её не поймали с поличным.
Лисы-«коллекционеры обуви». В Великобритании была история с лисой, которая облюбовала целый район. За пару месяцев у жителей исчезли десятки ботинок и кроссовок. Их потом находили в норе, аккуратно сложенными стопками. Видимо, у лисы был свой собственный «бутиковый склад».
Попугаи-карманники. Попугаи, особенно какаду, тоже любят красть. Один австралийский какаду по кличке Гарри прославился тем, что воровал у гостей серьги и кольца прямо во время ужина. Причём делал это с такой грацией, что хозяева шутили: «Если бы он был человеком, ему бы давно дали работу в мафии».
Но, смех смехом, а клептомания — это вовсе не повод для лёгких шуточек за чаем. Это реальное расстройство, официально признанное медициной и занесённое в международный классификатор болезней (МКБ-10). Там оно гордо носит код F63.2 и звучное название: «Патологическое влечение к воровству».
Причины этого странного недуга до конца ещё не изучены. Учёные почесывают затылки и признаются: механизм сложный и многогранный. Условно их можно разделить на три больших блока — биологические, психологические и социальные.
Биологические причины
Генетика. У многих клептоманов в роду находятся родственники с другими психическими проблемами — например, с депрессией или обсессивно-компульсивным расстройством. Тут напрашивается вывод: «передаётся по наследству». То есть можно честно оправдаться: «Я не ворую — это гены такие!»
Нейрохимия. Тут всё ещё интереснее. Уровень дофамина и серотонина в мозге у клептоманов часто нарушен. А дофамин, как известно, — это гормон удовольствия, «внутренний конфетный автомат». У обычного человека он выделяется от шоколадки или комплимента, а у клептомана — от момента, когда он кладёт чужую безделушку в карман. Получается, мозг словно подменил награду: вместо радости от покупок — радость от кражи.
Мозговые структуры. Современные методы нейровизуализации (то есть всякие умные томографы) показывают, что у клептоманов могут быть отклонения в работе лобных долей. А именно та часть мозга, которая отвечает за контроль импульсов и принятие решений, работает у них «с перебоями». Вот и выходит: мозг говорит «не надо», рука уже тянется, а совесть безуспешно машет красным флажком.
Психологические причины
Если заглянуть в голову клептоману, там окажется целый «психологический аквариум», полный бурлящих процессов.

Компульсивное поведение. Клептомания часто работает как разновидность навязчивого, то есть компульсивного поведения. Это когда человек понимает, что делать не надо, но всё равно делает. Представьте себе ситуацию: вы сидите на скучной лекции, и вдруг у вас возникает непреодолимое желание… щёлкать ручкой. Мозг говорит: «Хватит», соседи смотрят зло, а рука сама продолжает. У клептомана то же самое — только вместо щёлкающей ручки в руках оказывается чужая безделушка.
Эмоциональные триггеры. Для некоторых людей кража становится своеобразной таблеткой от стресса. Поссорился с начальником? Украл зажигалку. Раздражает сосед по комнате? Стащил его носки. Тревога, депрессия, грусть — всё это может временно «лечиться» украденной мелочью. Конечно, эффект короткий, зато какой! Почти как у шоколадки: сначала сладко, потом — чувство вины за съеденный плиточный «грех».
Личностные расстройства. У части людей клептомания идёт «в комплекте» с другими психическими проблемами — например, с расстройствами личности. А это уже тяжелее: если обычный человек ещё способен включить «стоп-кран» и сказать себе: «Не делай глупостей», то у таких людей тормозная система работает с перебоями. Импульс пришёл — и всё, здравствуй, новая ложка, салфетка или магнитик, зачем он нужен — никто не знает.
Именно поэтому психологические причины делают клептоманию особенно коварной: это не просто «хочу украсть», это способ эмоциональной разгрузки, пусть и с крайне сомнительными
Социальные причины
Если биология и психология — это внутренние механизмы клептомании, то социальные факторы — это та среда, которая эти механизмы запускает, подбрасывает дровишек в костёр.
Семейная динамика. Семья может быть как теплицей для цветущей личности, так и фабрикой по производству будущих неврозов. Недостаток внимания, отсутствие эмоциональной поддержки, вечные скандалы на кухне и ссоры за закрытой дверью — всё это создаёт у ребёнка чувство нестабильности. В итоге маленький человек ищет способ компенсировать внутреннюю пустоту. И вот, вместо того чтобы собирать марки или выращивать кактусы, он находит новый «хобби-клуб» — воровство. Для кого-то это просто шалость, для кого-то — способ заявить о себе миру: «Смотрите, я тоже чего-то стою!»
Социальное окружение. Не зря говорят: «С кем поведёшься, от того и наберёшься». В компании друзей, где считается нормальным «под шумок» стащить жвачку или банку энергетика, клептомания может пустить корни особенно легко. Тут ещё и эффект подбадривания: «Ну чего ты, слабо? Давай, бери!» — и вот уже человек втягивается в этот процесс. Конечно, не у всех друзей такие «развлечения», но если компания токсичная, то шанс появления клептомании резко возрастает.
Культурные и социальные факторы. Тут уже вмешивается «большое общество». В культурах, где кража воспринимается мягче, чем в других, порог внутреннего сопротивления снижается. Добавим сюда современный мир витрин, где всё вокруг блестит, манит и кричит: «Возьми меня!» — и получаем идеальный триггер. Ведь в обществе потребления покупка — это форма самоутверждения. А клептоман, можно сказать, лишь «экономит» и делает то же самое, но бесплатно. Правда, за удовольствие потом приходится платить не в кассе, а психологу.
Всё это вместе показывает: клептомания — это не один-единственный фактор, а коктейль, смешанный из генетики, психики и общества. И главное — у каждого человека рецепт этого коктейля свой. У кого-то больше «биологии», у кого-то «семейных драм», у кого-то «друзей с кривым пониманием веселья». Именно поэтому каждый случай клептомании уникален и требует индивидуального подхода к лечению.
Если у человека появляются признаки клептомании, самое разумное — не прятать голову в песок, а искать помощь. Болезнь — не стыд, стыдно как раз молчать и надеяться, что «само пройдёт».
Что делать клептоману? Полностью излечиться от этого недуга трудно, но держать его под контролем вполне реально. Первый шаг — признать проблему. Второй — обратиться к специалисту. И не стоит бояться: психиатр не станет звонить в полицию и докладывать о вашей «любви к бесплатному». Он связан клятвой Гиппократа и врачебной тайной. Ну а в худшем случае он просто пропишет таблетки, а не «уголовку».
Сегодня терапия строится на комбинации: медикаменты плюс психотерапия. Раньше врачи делали упор только на разговоры по душам, теперь же активно подключают антидепрессанты и стабилизаторы настроения, чтобы сбалансировать работу мозга. Это как отладить компьютер: если программа зависает, можно обновить программное обеспечение таблетками.

Что касается психотерапии, то здесь вариантов море. Когнитивно-поведенческая терапия помогает научиться «останавливать руку на полпути к полке». Психодинамическая — разобраться, что за внутренние демоны толкают вас на кражу. А семейная терапия иногда полезна, чтобы родные поняли: ваш постоянный интерес к чужим безделушкам — это не наглость, а болезнь.
Отдельная история — группы взаимопомощи. Да-да, есть и такие: «анонимные клептоманы». Встречи там проходят примерно в таком духе: «Здравствуйте, меня зовут Сергей, и я уже два месяца не крал». Смеяться не стоит — для многих это реально работает. Когда сидишь в кругу людей, которые понимают твой позыв «стащить резинку за пять копеек», становится чуть легче.
Многие со временем вырабатывают свои «домашние» способы борьбы с позывами. Кто-то идёт в спортзал и выплёскивает энергию на беговой дорожке, кто-то прыгает в бассейн, кто-то садится писать стихи. Конечно, это не универсальная таблетка: иногда позыв сильнее, чем желание поплавать. Но всё же активная альтернатива помогает сбить остроту.
Главное — не замыкаться в себе. Клептомания — это болезнь, а не приговор. Чем раньше человек обратится к специалистам, тем больше шансов, что в магазине он будет выходить из отдела с покупками, а не с красными щеками и охранником под руку.
Ну и, конечно, важнейший союзник в борьбе с клептоманией — семья. Ни один психотерапевт не заменит близкого человека, который вовремя заметит тревожные сигналы и подставит плечо. Особенно тревожно, когда признаки клептомании проявляются у ребёнка. Тут нельзя махать рукой: «Да ладно, это он так балуется». Нет, не балуется! Если не вмешаться, «инстинктивное тяп-ляп» очень быстро может превратиться в сознательную привычку, которая уже тянет в сторону криминала.
Что же делать? В первую очередь — поддержка и понимание. Если родственник вернулся домой с чужой флешкой или пятым подряд брелоком, то вместо громкого: «Ты позор семьи!» лучше сказать: «Слушай, я заметил, что у тебя появились странные вещи, которые ты не можешь объяснить. Я беспокоюсь за тебя». Такой подход работает лучше, чем лекции в духе «я тебя таким не воспитывал».
Открытый разговор — ключевой момент. Только без допросов в стиле следственного комитета. Лучше использовать «я»-утверждения: «Я переживаю», «Я хочу помочь». Это снижает градус конфликта и даёт шанс, что человек хотя бы услышит вас, а не уйдёт, хлопнув дверью.
Следующий шаг — мягко направить близкого к профессиональной помощи. Врачи и психологи нужны не для того, чтобы поставить «клеймо», а чтобы помочь наладить внутренние процессы. Иногда достаточно пары сеансов с психотерапевтом, чтобы человек осознал масштабы проблемы.
Ну и, конечно, постоянная эмоциональная поддержка. Клептоман и так живёт с чувством вины и стыда, а если ещё и семья отвернётся — шансов на выздоровление будет ещё меньше. Когда близкие рядом и не осуждают, человеку проще сделать шаг к лечению.
Клептомания — это серьёзное расстройство, и тянуть с помощью не стоит. Чем раньше человек получит поддержку, тем выше шанс, что в будущем он будет выходить из магазинов не с украденной мелочью, а с чеком и честной покупкой.
А что же наша «героиня» — та самая Марина, с которой мы и начали разговор о клептомании?
Марине (имя, как водится, изменено — мало ли, вдруг она сейчас спокойно ходит по соседнему супермаркету) 35 лет. Первые «подвиги» начались ещё в подростковом возрасте: то резинку стащит, то безделушку с витрины. Тогда казалось, что это мелкая шалость, подростковый бунт. Но привычка оказалась липкой, словно жвачка, и тянулась за ней годами.
Взрослая жизнь только усложнила ситуацию: работа, семья, статус — и внезапно угроза потерять всё из-за какой-то ерунды, украденной в магазине. Представьте себе: уважаемая сотрудница с отличным резюме рискует карьерой не из-за взятки или служебного скандала, а из-за чужой заколки за три копейки. В какой-то момент даже её терпеливый муж начал задавать вопросы, а на работе стало подозрительно много шёпота за спиной.
И тогда Марина решилась. Обратилась к психологу, прошла курс психодинамической терапии, принимала антидепрессанты. Научилась распознавать свои триггеры: понимала, что после стресса или ссоры у неё «чешутся руки», и заранее вырабатывала стратегии, как занять себя чем-то другим.
Спустя год упорной работы и посещения групп поддержки Марина смогла достичь стабильного улучшения. Она научилась держать свои импульсы под контролем и перестала испытывать тот самый парализующий стыд, когда выходишь из магазина и думаешь: «А вдруг заметили?»
Сегодня Марина продолжает ходить на терапию, посещает группы «анонимных клептоманов» и уверена, что больше не окажется в ситуации, когда её жизнь рушится из-за мелкой и бессмысленной кражи. И знаете что? Этот случай доказывает: клептомания — это не приговор. С ней можно бороться, если не прятаться, а честно признать проблему и работать над собой.
Клептомания — странная и парадоксальная болезнь. Она заставляет людей рисковать карьерой, семьёй, репутацией ради вещи, которая часто даже не нужна. Это, как если бы мозг включал «режим экономии» не в кошельке, а в здравом смысле.
Мы увидели, что клептоманы бывают разные: от подростков с шоколадным батончиком до звёзд Голливуда, которые уходят из бутиков с ожерельями, и даже до котов, таскающих у соседей дизайнерскую обувь. Болезнь не выбирает жертв по кошельку или статусу — она цепляется к любому.
Но важно другое: клептомания — это не приговор. Да, она может испортить жизнь, превратить шопинг в полосу препятствий, а каждую витрину — в искушение. Но при помощи психотерапии, медикаментов и поддержки близких человек может вернуть контроль над собой.
Главное — не замалчивать проблему и не превращать её в «семейный секрет». Ведь клептомания похожа на тайный пожар: если делать вид, что дыма нет, огонь рано или поздно вырвется наружу.
И, пожалуй, стоит помнить простую истину: бороться с клептоманией можно и нужно. Потому что жить с постоянной мыслью «а вдруг заметят?» — это не жизнь, а вечная игра в прятки. А куда лучше, когда ты выходишь из магазина с покупками, чеком и лёгкой душой — а не с украденной безделушкой и тяжёлым чувством вины.
[1] Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. American Psychiatric Association. (2013, 5th ed.). Стр. 478-479.
[2] Hollinger RC, Davis JL. 2002 National Retail Security Survey Final Report. Gainesville, Fla: University of Florida. 2003.




