Учебная литература по юридической психологии
ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПСИХОЛОГИЯТашкент, 2025.
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС, ГРАЖДАНИН, СОВРАМШИ!
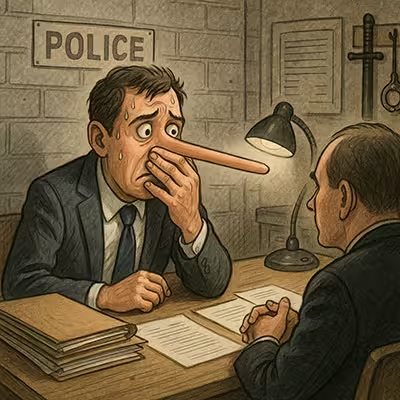
Август Шлегель
Работа правоохранителя – это не только папки с делами, печати и протоколы. Это ещё и бесконечные разговоры с людьми, у каждого из которых свой характер, настроение и, главное, своя правда. А чаще — своя «правда» в кавычках. Тут-то на помощь и приходит психология. Но не та, что советует обниматься с деревьями и верить в чакры, а вполне прикладная — о том, как отличить честного рассказчика от гражданина соврамши.
Ложь — главный ингредиент преступной кухни. Кто-то врёт, чтобы спастись, кто-то — чтобы запутать следы, а кто-то просто не умеет по-другому жить. В итоге получается своеобразная дуэль: следователь пытается докопаться до истины, а подозреваемый — закопать её поглубже, да ещё и сверху асфальтом закатать. И оба, заметьте, играют примерно в одну и ту же игру: узнать как можно больше о сопернике и не выдать при этом свои секреты.
Методы лжи бывают самые разные — от банального «это не я» до виртуозной жонглёрской работы с фактами, когда правду и выдумку перемешивают так искусно, что сразу и не поймёшь, где котлеты, а где мухи. И что интересно: врать, оказывается, куда сложнее, чем говорить правду. Ведь за каждой фразой приходится следить, помнить, что ты уже соврал, и ещё убедительно изображать невинность. А человеческая психика — штука капризная: чуть переборщил, и наружу вылезают микросигналы — нервная усмешка, лишняя пауза, сбивчивый жест.
Правоохранитель тут должен быть не просто сыщиком, а ещё и тонким психологом, своего рода «детектором лжи на ногах». Но, в отличие от машины с проводами, он опирается не на лампочки, а на опыт, наблюдательность и знание приёмов психологической диагностики. Именно это позволяет вовремя понять, что перед ним — свидетель, случайно запутавшийся в деталях, или мастер слова, пытающийся протолкнуть фальшивку под видом истины.
Ложь, как и хороший борщ, имеет массу рецептов. Сотруднику правоохранительных органов важно разбираться в этих кулинарных вариациях, иначе рискуешь перепутать настоящий факт с подгоревшей фантазией. Итак, виды лжи бывают разные — от примитивных до изощрённых, как коллекция тайн в семейном шкафу.
Абсолютная ложь — это когда человек несёт чистейший вымысел от начала и до конца. Такой вариант встречается редко, потому что врать «с нуля» — дело неблагодарное: слишком много деталей приходится придумывать. Представьте, нужно выстроить целый замок на песке — рано или поздно он рухнет от одного неосторожного вопроса.
Неполная ложь — самая популярная разновидность. Тут всё работает по принципу: «немного правды, немного фантазии — и коктейль готов». Лжец берёт реальные факты, но слегка их «прихорашивает» под свои нужды. Например: «Да, мы с ним встречались, но только случайно, и вообще разговор был ни о чём». Вроде и правду сказал, а вроде и самое важное — спрятал.
Ложь умолчанием — изысканный жанр, достойный отдельного пьедестала. Человек ничего плохого вроде не сказал, но и самого главного — тоже. В результате у слушателя складывается картинка, которая вроде правдива, но недописана. Это как смотреть фильм, из которого вырезали финал: зритель сам додумает то, что выгодно автору. Особенно опасна такая ложь тем, что её труднее всего заметить — ведь формально всё звучит честно.
Цепная ложь — это уже настоящее многосерийное кино. Одна неправда тянет за собой другую, потом третью… и вот уже перед вами сериал на двадцать серий, в котором сам автор путается в сюжетных линиях. Разоблачишь одну мелочь — и вся история посыплется, как карточный домик.

Самое страшное — это ложь, которую не разоблачили. Она, как невыключенный утюг, вроде бы и маленькая деталь, но способна спалить целый дом. В уголовном процессе такие недобросовестные «искажения реальности» могут привести к катастрофе: от ошибки в расследовании до судебного приговора невиновному.
Неудивительно, что у правоохранителей должна быть не только зоркая память и острый ум, но и крепкие нервы, подкреплённые знаниями в области психологии. Ведь только так можно противостоять этому хитроумному врагу — лжи во всех её обличьях.
Кстати, известный психолог Пол Экман (тот самый, по чьим идеям сняли сериал «Обмани меня») выделял всего два основных приёма: умолчание и искажение. Казалось бы, минимализм. Но из этих двух кирпичиков строятся целые дворцы иллюзий. И если в обычной жизни ложь может помочь человеку выкрутиться из неудобной ситуации («Конечно, дорогая, это платье тебе идёт!»), то в работе следователя подобные уловки превращаются в настоящую проблему, мешающую докопаться до правды.
Учёные давно заметили: ложь — это не только слова, но и целый арсенал приёмов, с помощью которых гражданин соврамши пытается запутать следователя.[1] И иногда эти приёмы работают ничуть не хуже, чем дымовые шашки на поле боя.
Умолчание, сокрытие, исключение. Самый любимый и самый опасный инструмент. Человек вроде бы честно рассказывает, но почему-то забывает упомянуть парочку «незначительных» фактов. Ну, например: «Да, мы прекрасно провели вечер с друзьями…» — и точка. А то, что после веселья вся компания дружно поехала «пошалить» в ювелирный магазин, уже как бы и не входит в рамки беседы. Формально всё правда, только ключевые куски аккуратно вырезаны ножницами, словно из старой газеты.
Дополнение описания вымышленными деталями. Тут фантазия включается на полную катушку. Человек берёт реальную историю и начинает приукрашивать её, как бабушка — новогоднюю ёлку: лишние игрушки, мишура, гирлянды. В результате получается такой «новогодний» рассказ, что слушатель невольно отвлекается на блестяшки и перестаёт замечать, что главного смысла в них нет. Иногда это мелкие штрихи — «Я в тот вечер был в кафе, пил кофе… двойной латте без сахара, с корицей». А иногда — целая выдуманная сцена, которая должна создать алиби или увести следствие в сторону.

Перестановка и смещение. Это уже почти монтажный трюк из кино. Взял события, поменял их местами, чуть подвинул по времени — и вот уже складывается совсем другая картина. Был на месте преступления? Был, но не в восемь вечера, а в девять утра! Встретился с пострадавшим? Встретился, но не в тот день, а на неделю раньше! Лжец словно режиссёр, который пытается смонтировать фильм так, чтобы зритель (то есть следователь) поверил в другую версию событий.
Замена отдельных элементов события. Тут уже пошла подмена деталей. Место встречи? «Да нет, мы были не в парке, а в ресторане». Время? «Не вечером, а утром». Компания? «Не я, а сосед Василий». Всё просто: настоящие факты заменяются на поддельные, и правда начинает выглядеть как подделка, а подделка — как правда.
Все эти уловки — как крошки на кухонном столе: отдельно они кажутся мелочью, но вместе складываются в довольно убедительную картину. И если у следователя глаз не набит, он рискует клюнуть на красивую, но абсолютно фальшивую историю.
Как это работает
Следователь Иванов задаёт вопрос:
— Так где вы были вечером 14-го числа?
Подозреваемый глубоко вздыхает, делает вид, что думает, и начинает:
— Ну… в общем-то, я был дома. Хотя… нет, подождите, я же за хлебом выходил. Но ненадолго. Минут на пять. А потом сразу домой.
(Приём «умолчание» — про то, что хлеб он покупал в соседнем городе, рядом с местом преступления, он, конечно, «забыл» уточнить.)
— С кем встречались?
— С кем-с кем… Да ни с кем! Ну разве что сосед Василий мимо шёл. Хотя, постойте… точно, мы ещё встретили его брата, Сергея. Они там спорили о футболе…
(«Дополнение вымышленными деталями» — чем больше имён и фактов, тем солиднее звучит.)
— Во сколько это было?
— Вечером. Часов в девять… ой, хотя нет, наверное, утром, часов в десять. Я путаю, понимаете…
(«Перестановка и смещение» — когда время и хронология начинают жить собственной жизнью.)
— И всё-таки, вы с Василием там были?
— Да что вы! Я? С Василием? Никогда! Это, должно быть, кто-то другой, похожий. Я вообще-то тихий человек, к правонарушениям отношения не имею.
(«Замена элементов» — Василия подставили, а герой — белый и пушистый.)
Следователь слушает, делает пометку в блокноте и спокойно говорит:
— Интересно… а если всё это сложить в одну кучу, то у вас уже получается сюжет для телесериала. «Гражданин соврамши и его приключения». Может, права экранизации продадите, а?
Почему же люди, прекрасно понимая, что за ложь в суде грозит не только суровый взгляд прокурора, но и вполне конкретная статья, всё равно продолжают юлить? Ответ прост: врать ради самого процесса мало кто любит (разве что патологические фантазёры). Обычно ложь — это инструмент, средство для защиты или выгоды. Ну, своего рода универсальный «швейцарский нож», только вместо лезвий — разные формы искажённой правды.
Среди причин лжи свидетелей и потерпевших можно выделить следующие.
Первая причина — влияние со стороны.
Часто свидетели и потерпевшие попадают под давление родственников, друзей или иных «заинтересованных лиц». Тут, как говорится, уговор дороже денег: «Ну, скажи, что он был со мной, а не там, иначе беда». А иногда уговор действительно подкрепляется деньгами или подарочками. В ход идут и более жёсткие методы: угроза, шантаж, обещание «проблем на всю жизнь». Не каждый готов ради правды рисковать здоровьем или репутацией.
Вторая причина — психологическое состояние. Свидетель после происшествия может быть в таком стрессе, что у него в голове всё перемешивается, как в калейдоскопе: детали путаются, время искажено, а лица людей словно в кривом зеркале. И он, бедняга, искренне считает, что говорит правду. Тут искажённые воспоминания — не злой умысел, а побочный эффект шока.
Третья причина — личная заинтересованность. Сюда можно отнести всё: от защиты себя и близких до стремления урвать материальную выгоду. Бывает, что потерпевший «приукрашивает» ущерб, чтобы компенсацию побольше получить. Или свидетель утаивает часть правды, чтобы самому не оказаться в подозрительном свете. В итоге ложь становится бронежилетом, спасением от неприятностей.
Четвёртая причина — нежелание участвовать в долгом марафоне правосудия. Допросы, повторные вызовы, суды, вопросы адвокатов… Для многих участие в уголовном процессе сродни второму трудоустройству, только без зарплаты и отпусков. Поэтому человек иногда предпочитает наврать что-нибудь, лишь бы его оставили в покое и не таскали снова и снова.
Пятая причина — отношение к правоохранителям. «А чего я им должен помогать? Они же мне в прошлом году штраф выписали ни за что!» — думает гражданин и решает слегка приукрасить показания. Недоверие, обида, ощущение несправедливости — всё это способно породить ложь как форму тихого саботажа.
Шестая причина — банальная неуверенность. Память человека — не видеокамера, и чем больше проходит времени, тем сильнее воспоминания искажаются. Свидетель может искренне думать, что рассказывает правду, но в результате выдаёт целую «реконструкцию событий», основанную больше на догадках и эмоциях, чем на фактах.
Седьмая причина — культурные и социальные факторы. В некоторых группах «сдавать своих» считается чуть ли не преступлением похуже самого преступления. Там работает железное правило: «чужим не рассказывай». Социальные нормы и давление коллектива нередко заставляют людей искажать факты или молчать, даже если правда им известна.
В итоге мы получаем целую палитру мотивов: от страха до корысти, от стресса до культурных установок. Для следователя это означает одно: за каждым словом свидетеля или потерпевшего скрывается не только память о событиях, но и целый клубок личных интересов, страхов и обстоятельств. И распутать его — задача не из лёгких. Тут надо быть и психологом, и стратегом, и немного шахматистом, чтобы предугадать следующий «ход» собеседника.
Причины, по которым подозреваемые и обвиняемые начинают врать, можно перечислять долго — список внушительнее, чем меню в узбекском ресторане. Но суть всегда одна: человек хочет выкрутиться из неприятностей, а ложь для него — универсальная смазка, позволяющая проскользнуть мимо закона.
Во-первых, стремление уклониться от ответственности. Это классика жанра: «Не виноватая я, он сам пришёл!». Главное — избежать наказания и компенсации ущерба. Ведь перспектива провести несколько лет в местах не столь отдалённых нравится мало кому. А уж платить за причинённый вред — удовольствие ещё меньшее.
Во-вторых, желание смягчить участь и сохранить «нажитое непосильным трудом». Даже если человек понимает, что полностью уйти от ответственности не получится, он попытается хотя бы скостить срок или облегчить условия. А имущество, добытое преступным путём, желательно оставить при себе. Ведь кто же добровольно отдаёт своё «тёплое местечко» — будь то чемодан с наличкой или Пежо на подставное имя?
В-третьих, воздействие со стороны. Иногда обвиняемый врёт не по доброй воле. Его могут купить или припугнуть: от «держи конвертик за правильные слова» до «передай привет своим ребрам, если не согласишься». В таком случае ложные показания — это вопрос выживания, а не хитроумной стратегии.
В-четвёртых, страх признания вины. Сказать правду — значит перечеркнуть жизнь. Потеря работы, крах семьи, испорченная репутация… Не каждый готов на такое. Гораздо проще изобразить из себя «невинного агнца» и отрицать всё до последнего. Здесь работает принцип: «пока не доказали — я чист».
В-пятых, желание отомстить. Некоторые используют ложь как дубинку: «А вот я расскажу, что он всё затеял, пусть теперь его таскают!» Такой своеобразный способ расплаты с бывшими соучастниками или недругами.
В-шестых, напротив, страх мести. Бывает и так: обвиняемый боится, что, если расскажет правду, соучастники не простят. И тогда он начинает врать, защищая не столько себя, сколько свою шкуру от дальнейших неприятностей.
В-седьмых, корысть и личные выгоды. Ложные показания становятся своеобразной валютой: можно выторговать себе более мягкий срок, лучшее место в камере или другие «бонусы». Нечто вроде внутренней торговли: «Я вам враньё — вы мне послабления».
В-восьмых, защита близких. Иногда ложь звучит почти благородно: «Я скажу, что это сделал я, лишь бы брата не трогали». Правда, благородство тут сомнительное: в итоге страдают и следствие, и справедливость.
Вот так и выходит: обвиняемый может врать и из страха, и из жадности, и даже из мстительных чувств. Для следователя это означает, что каждое слово подозреваемого надо рассматривать не как готовый факт, а как потенциальный ребус. А разгадать его можно только понимая мотивы и внутренние механизмы, которые толкают человека на искажения правды.
Ложь — дама многоликая. Она не ограничивается словами и красивыми историями, сочинёнными на ходу. Нет, она гораздо изобретательнее. Ложь умеет маскироваться в оговорках, фальсификациях, лживых алиби, доносах и прочих «творческих жанрах». Но самое интересное — в том, что она всегда выдаёт себя не только речами, но и жестами, мимикой, интонациями. Человек может уверять вас, что «никогда там не был», но его бровь нервно дрогнет, рука выдаст лёгкий жест, а голос предательски сорвётся на полтона. И вот оно, зерно правды, пробившееся сквозь бетон неправды.
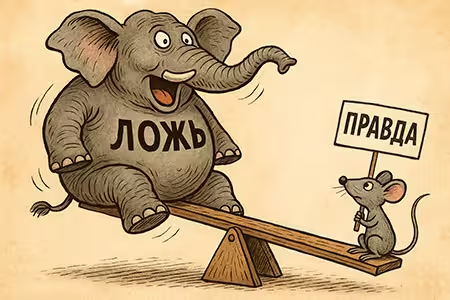
Психологи говорят: сознание лгущего человека похоже на арену, где одновременно выступают два актёра. Один — реальный, хранитель подлинной картины событий. Другой — выдуманный, сшитый из фантазий и недомолвок. Первый актёр постоянно напирает, стараясь прорваться наружу, а второй отчаянно зажимает его за кулисами. Врать тяжело ещё и потому, что настоящие воспоминания крепко сидят в памяти — яркие, чёткие, словно фотография. А вот придуманные детали получаются размытыми, мутными, как плохая копия. Лжец вынужден подменять одно другим и при этом ещё запоминать собственные выдумки. Это сродни тому, как если бы человек пытался одновременно выучить стихотворение и забыть собственное имя.
А ложь, как известно, требует усилий. Каждую выдуманную деталь надо держать в голове, повторять одинаково при каждом допросе, не перепутать и не выдать себя случайной оговоркой. Стоит хоть раз перепутать — и вся красивая конструкция рассыплется. Поэтому, кстати, говорить правду гораздо легче: ничего выдумывать и запоминать не надо, память сама выдаёт готовую запись.
Для следователя главный инструмент — это умение заметить рассинхрон между словами и телом. Человек может клясться в своей честности, но глаза бегают, губы сухие, голос дрожит, а поза явно выдаёт напряжение. И здесь важно не хвататься за один-единственный признак («он почесал нос — значит, врёт!»), а видеть целую систему сигналов.
Опытные специалисты знают: о лжи могут говорить и повторяющиеся «разные версии» одного и того же события, и чрезмерно расплывчатые показания, и подозрительно одинаковые детали у разных свидетелей (когда все как один вдруг вспоминают, что преступник был «в серой куртке с капюшоном»). Сюда же относятся оговорки, случайные намёки на то, о чём человек якобы «ничего не знает», бедность эмоций в рассказе («ну да, убили, и что дальше?»), постоянное подчеркивание своей добропорядочности («вы же понимаете, я человек честный, всегда помогал соседям!»), уклонение от прямых вопросов и откровенное умалчивание очевидных фактов.
Но хитрость в том, что всё это — не стопроцентные доказательства. Человек может чесать нос от аллергии, а не от угрызений совести. Может нервничать не из-за того, что врёт, а потому, что перед ним сидит грозный следователь в форме. Поэтому настоящая диагностика строится только на комплексе признаков, и чем они разнообразнее — тем надёжнее вывод.
И вот тут-то и проявляется мастерство: распознавать ложь на трёх уровнях — словесном, невербальном и психофизиологическом. То есть слушать не только слова, но и наблюдать за телом и внутренними реакциями собеседника. Ведь правда и ложь ведут себя по-разному, и если присмотреться внимательно, это становится заметно.
Вербальный уровень диагностики лжи — это своего рода «аудит речи». Здесь следователь внимательно прислушивается не только к тому, что говорит собеседник, но и как он это делает.
Начнём с простого: правдивый рассказ всегда «живой». Он наполнен мелочами, которые человек и не думает подбирать специально. «Да, мы встретились у магазина, я как раз мороженое ел, у меня рука замёрзла, и я ее в карман спрятал». Вот такие детали делают историю настоящей. Лжец же, напротив, старается обобщать. Его речь больше похожа на школьное сочинение на тему «как я провёл лето»: гладко, схематично, без красок.
Вместо конкретики часто звучат шаблоны: «ну, так обычно делают», «так принято говорить». Это удобный приём — вроде и ответил, но ничего о себе не сказал. Такой человек словно держится на расстоянии: не участник событий, а сторонний комментатор.
Ещё один момент — компетентность. Честный человек спокойно рассуждает даже о том, что напрямую к нему не относится, он не боится пофантазировать или вспомнить что-то личное. А вот лжец старается лишний раз не влезать в подробности: «я в этом не разбираюсь», «этот вопрос не по адресу». Правда, иногда он идёт в другую крайность — начинает щедро сыпать специальными терминами, чтобы создать иллюзию глубокой осведомлённости. Получается картина: чем больше «научных словечек», тем меньше настоящих знаний.
Удивительно, но именно небольшие несогласованности в речи часто выдают правду. Честный человек не думает, как его слова будут выглядеть на бумаге, он рассказывает, как есть. Могут появиться мелкие противоречия: «кажется, это было в девять… нет, всё-таки ближе к десяти». И это нормально. Лжец же боится малейшего «сбоя в матрице», поэтому его речь приглажена, как вылизанный пол в казарме. Но излишняя ровность и постоянные повторы заученных фраз как раз и становятся тревожным сигналом.
Вербальная ложь проявляется и в звуке речи. Голос может дрогнуть, стать выше или ниже обычного, появятся ненужные паузы или, наоборот, подозрительно быстрые ответы. Часто включаются «побочные эффекты»: покашливание, прочищение горла, сбивчивая интонация. Всё это не обязательно доказывает враньё, но ясно показывает: человек напряжён. А напряжение — верный спутник обмана.
В итоге, на вербальном уровне важно ловить именно эти тонкие «шероховатости». Потому что правда обычно звучит естественно, а ложь слишком старается выглядеть убедительной.
Чтобы вытащить ложь на поверхность, следователь не обязательно должен иметь при себе детектор с проводами и лампочками. Достаточно пары простых тактических приёмов.
Один из самых действенных называется «проверка на противоречия». Смысл здесь простой: вернуться к уже заданному вопросу, но слегка изменить формулировку. Правдивый человек может немного «плавать» в деталях — сегодня он скажет, что фильм был после новостей, завтра вспомнит, что ещё ел яблоко перед телевизором. Это нормально: память не диктофон, она живёт своей жизнью.
А вот лжец стремится быть железно последовательным, словно робот. Он повторяет одну и ту же фразу слово в слово, потому что боится сойти с написанного сценария. Но беда в том, что сценарий у него в голове слабенький и не очень продуманный.
Представим картину. Подозреваемый с каменным лицом заявляет:
— В момент преступления я был дома: ужинал, смотрел телевизор, потом лёг спать.
Следователь кивает, делает пометку — и спустя время возвращается к теме:
— Вы упоминали телевизор. А что именно вы смотрели?
Подозреваемый, недолго думая:
— Фильм.
Следователь снова делает вид, что это его очень интересует, и спрашивает:
— А что было после фильма, до того, как вы заснули?
И вот тут начинаются чудеса. Подозреваемый вдруг заявляет:
— Ну… фильм закончился позже, чем я лёг спать.
Тут даже самый неопытный курсант улыбнётся: как можно лечь спать раньше, чем закончился фильм, который ты якобы смотрел? Вот так маленькая трещина превращается в брешь.
Вот в чём сила приёма: если человек говорит правду, его воспоминания естественно варьируются, он добавляет мелочи, иногда противоречит сам себе в деталях. А лжец стремится быть идеальным — и именно это «идеальное совпадение» и выдаёт его с головой.
В арсенале следователя есть ещё один изящный трюк — неожиданный вопрос. Он работает как спотыкалка: лжец шёл себе бодро по дорожке своей заученной истории — и вдруг раз! — вопрос, которого он никак не ожидал. И вся стройная легенда начинает шататься.
Дело в том, что врать трудно: обычно человек заранее продумывает лишь основные пункты своей «легенды». Ну, что он ужинал дома, смотрел телевизор, а потом лёг спать. Или что видел подозреваемого на улице и даже запомнил его одежду. Но никто не готовит себе «страховку» в виде мелких деталей: запахов, звуков, случайных мелочей. А именно они-то и выдают правду.
Следователь может внезапно спросить:
— А вы обратили внимание на звуки вокруг? Может, что-то необычное слышали?
И вот тут лицо свидетеля вытягивается. Легенды про «джинсы и куртку» он заучил назубок, а вот про звуки — не подумал. Начинаются мычания в стиле: «Ну… кажется, какой-то шум».
Следователь делает вид, что верит, и уточняет:
— Шум от машины? Или, может быть, собака лаяла?
И всё — легенда рушится. Человек путается, говорит что-то невнятное, сам начинает сомневаться в собственных словах. А правдивый свидетель, даже если и не помнит точных деталей, реагирует иначе: «Не могу сказать точно, но вроде лаяла собака». У честного человека всегда есть эта естественная лёгкость в воспоминаниях.
Вот в чём хитрость: неожиданный вопрос действует как удар боксерской перчаткой по подбородку — пусть и не нокаут, но противник явно теряет равновесие. Лжец теряет уверенность, начинает путаться и выдаёт себя именно тем, что заранее готовился к одному сценарию, а оказался в совершенно другом.
Ещё одна хитрая тактика в арсенале следователя — проявление интереса к мелочам. На первый взгляд это выглядит почти смешно: разговор идёт о серьёзных вещах — преступлении, алиби, показаниях, — а следователь вдруг цепляется за чашку кофе или цвет скатерти в кафе. Но именно такие мелочи становятся тем самым камешком, об который спотыкается вся легенда.
Лжец всегда боится, что именно в его выдумке сейчас найдут дыру. Поэтому, когда следователь неожиданно задаёт вопрос о какой-нибудь несущественной детали, он начинает нервничать: «Ого, так вот оно, моё слабое место!» И тут возможны два сценария. Первый: человек путается и отвечает невнятно. Второй: начинает слишком старательно выдумывать подробности, делая рассказ подозрительно «глянцевым». И то, и другое бьёт по его правдоподобию.
Представим сцену. Обвиняемый уверенно говорит:
— Вечером я был в кафе на другом конце города, сидел там с другом, пил кофе.
Следователь кивает, словно всё понятно. Но вдруг интересуется:
— А из какой чашки вы пили кофе?
Обвиняемый моргает и быстро отвечает:
— Кажется, белая.
Следователь с серьёзным видом уточняет:
— А у друга?
Тут обвиняемый, не задумываясь:
— Тоже белая.
И вот это уже подозрительно. Потому что нормальный человек, который действительно был в кафе, скорее всего просто скажет: «Да я не помню, какая чашка!» — и это будет звучать куда честнее. Но лжец думает, что должен знать всё, и потому попадается в собственную ловушку.
Секрет прост: правдивый рассказ живёт своей жизнью — человек вспоминает естественно и не стремится всё знать идеально. А ложь приходится держать в голове, подгонять и дорабатывать, и именно мелочи становятся тем самым слабым звеном.

Есть ещё один проверенный способ вывести лжеца на чистую воду — многообразие вопросов. Суть в том, что следователь несколько раз задаёт один и тот же вопрос, но чуть по-разному. Для честного человека это не проблема: он отвечает естественно, каждый раз формулируя по-своему, но сохраняя суть.
А вот для лжеца начинается настоящий кошмар. Он держится за свою легенду, как утопающий за соломинку, и поэтому повторяет одну и ту же фразу слово в слово. Для него любое отступление — риск, что вылезет правда. В результате его ответы звучат как заевшая пластинка.
Представим допрос.
— Где вы были вчера вечером в семь часов?
— Я был в кафе с друзьями.
— А чем вы занимались вчера около семи?
— Я был в кафе с друзьями.
— С кем вы провели вечер в прошлый день?
— Я был в кафе с друзьями.
Следователь хмурится и делает пометку: «подозрительная любовь к кафе и друзьям».
А теперь послушаем честного человека. Если он действительно был дома, то ответы будут живее:
— Я был дома, смотрел телевизор.
— В это время я сидел на диване и смотрел новости.
— Я был один дома, смотрел телевизор.
Да, формулировки разные, но логика совпадает. Живая память никогда не воспроизводит рассказ слово в слово — это удел тех, кто заранее зубрил легенду.
Вот почему разнообразные вопросы так полезны. Они не только помогают выявить ложь, но и показывают степень уверенности собеседника в своей версии. Чем настойчивее человек держится за одну заученную фразу, тем выше вероятность, что за ней скрывается вовсе не правда, а тщательно скроенная сказка.
Невербальный уровень диагностики лжи — это настоящая сокровищница для наблюдательного следователя. Слова можно отрепетировать, заучить, даже процитировать чужую историю. А вот тело и лицо выдают правду гораздо охотнее, чем сам человек.
Да, отдельные жесты можно скопировать — например, из фильмов: «Вот так сидят уверенные люди, значит, сяду и я». Но полностью контролировать своё поведение невозможно. На подсознательном уровне проскакивают сотни мелких сигналов — движение глаз, положение рук, угол наклона головы, даже микропауза перед ответом. Их невозможно подделать или удерживать долго, потому что мозг занят куда более важным — поддержанием самой легенды.
Ницше, как обычно, сказал метко: «Люди свободно лгут ртом, но рожа, которую они при этом корчат, всё-таки говорит правду». И действительно: рот может выдавать длинные, стройные объяснения, а лицо в этот момент «шепчет» совсем другое — страх, напряжение или недовольство.
В этом и ценность невербальной диагностики: она работает там, где слова перестают быть надёжными. И если присмотреться внимательнее, тело часто рассказывает куда больше, чем язык.
Подозреваемый сидит в кабинете, уверенно заявляет:
— Я абсолютно спокоен и ничего скрывать не собираюсь.
Следователь вежливо кивает, но взгляд его скользит чуть ниже — на руки. А там пальцы так крепко вцепились в подлокотник стула, что костяшки побелели, словно мрамор.
— Спокоен, говорите? — уточняет следователь.
— Да-да, спокоен как удав! — отвечает подозреваемый, вытирая пот со лба и нервно дёргая плечом.
И вот она, классика жанра: рот говорит одно, а тело кричит совсем другое.
Существует целый арсенал так называемых «жестов неискренности» — маленьких телесных сигналов, которые человек подаёт сам того не желая. Они похожи на нервные «утечки информации»: рот говорит одно, а руки, нос и воротничок — совсем другое.
Прикрывание рта рукой. Один из классических жестов. Человек рассказывает про своё алиби, уверяет, что вечером сидел дома, читал книжку, и вдруг — раз! — ладонь непроизвольно тянется к губам. Как будто рот сам себя пытается заткнуть: «Не верь, не верь, это неправда!» В детстве мы прикрываем рот, когда врём маме, и, как видим, взрослые мало чем отличаются — только делают это чуть изящнее.
Потирание носа. Легендарный жест, о котором знают даже те, кто никогда не держал в руках ни одной книги по психологии. Правда, причина у него куда более прозаичная: при вранье в организме выделяется адреналин, расширяются сосуды, и нос может слегка чесаться. Вот и получается: чем больше вранья, тем краснее и зудящее лицо. Так что, если подозреваемый в ответ на вопрос вдруг начинает «нежно тереть носик» — повод насторожиться.
Потирание века или почесывание уха. Это жесты из серии «я не хочу это слышать» или «лучше бы я этого не говорил». Человек как будто инстинктивно старается закрыться от собственных слов. Например: «Да-да, я точно видел его в тот вечер» — и тут же рука отправляется к уху, словно пытаясь стереть услышанное.


Оттягивание воротника, почесывание шеи, приглаживание волос. Эти жесты сигнализируют о внутреннем перегреве. Человеку кажется, что воздух вокруг стал тяжелее, что его буквально душит атмосфера недоверия. Вот он и начинает тянуть воротник, чтобы вдохнуть поглубже, чесать шею или поправлять волосы. Кажется, мелочь, но в совокупности с речью такие движения могут сказать больше, чем любые слова.
И ещё интересный момент: если человек молчит, но всё равно начинает активно чесать нос, тянуть воротник или прикрывать рот, — это может значить, что именно сейчас в его голове рождается свеженькая ложь. Тело уже реагирует на мысль, хотя слова ещё не сорвались с языка.
В целом «жесты неискренности» похожи на комические подсказки в плохом спектакле. Слова звучат гладко, но тело, словно неопытный актёр, всё время выдаёт тайну. И задача внимательного следователя — не пропустить эти маленькие мимолётные сигналы.
Следователь, спокойно глядя в глаза подозреваемому:
— Итак, вы утверждаете, что в момент ограбления находились дома?
Подозреваемый торжественно кивает:
— Абсолютно! Я был дома, сидел на диване… (резко прикрывает рот рукой) …и смотрел телевизор.
Следователь приподнимает бровь:
— Правда? Что именно смотрели?
— Ну… фильм, конечно, — отвечает подозреваемый, одновременно чешет нос, будто в нём поселился комар.
— Фильм? Интересно. А до фильма что было?
— До фильма?.. (начинает тереть ухо) Ну, вроде… реклама.
Следователь делает заметку в блокноте, кивает и невинно уточняет:
— Понятно. А почему вы так нервно воротник дёргаете?
Подозреваемый срывается:
— Это? Да жарко тут у вас, дышать нечем! — и тут же нервно приглаживает волосы, словно готовится к фотосессии.
Следователь, не сдержав улыбку:
— Знаете, вы так усердно жестикулируете, что мне даже слов ваших почти не надо. Ваше тело уже всё сказало.
Есть одна хитрость: то, что мы обычно принимаем за простые привычки — ерзание на стуле, барабан пальцами по столу или постоянное почесывание затылка, — может оказаться сигналом внутреннего беспокойства. А беспокойство — это частый спутник лжи.
Представьте картину: человек уверяет, что он «никогда в жизни не был на месте преступления», но при этом его колени начинают жить своей жизнью — тук-тук-тук по полу. Руки вроде бы спокойны, лицо каменное, а ноги, которые он забыл держать под контролем, выдают весь внутренний шторм.
Не зря Фрейд сказал: «Имеющий глаза, чтобы видеть, и уши, чтобы слышать, может убедиться, что ни один смертный не может сохранить тайны. Если его губы молчат, то он говорит кончиками своих пальцев; признаки лжи сочатся из каждой поры на его коже».[2] И в этом он был абсолютно прав. Лжец может сколько угодно изображать уверенность, но его тело рано или поздно подбросит какой-нибудь «сигнал SOS».
Причём интересно, что степень контроля убывает сверху вниз. То есть лицо и руки ещё можно держать в узде: натянуть улыбку, сложить пальцы замком, придать себе серьёзный вид. А вот ноги… бедные ноги! Они начинают сучить, постукивать, перекрещиваться и распрямляться так, что любой внимательный наблюдатель всё поймёт без слов. Поэтому хороший следователь всегда старается видеть человека целиком, а не только «говорящую голову». (И да, внимание к ногам подозреваемого обязательно — даже если это мужские ноги в стоптанных ботинках).
Не менее важно следить за эмоциональным фоном. Честный человек обычно проживает свои воспоминания заново: рассказывая о трагедии, он переживает её снова — голос дрожит, взгляд уходит в сторону, в речи появляются настоящие эмоции. Это не наиграешь, как бы ни старался. А вот ложь — штука холодная. Она создаёт ровный, формальный рассказ без подлинных чувств. Иногда, наоборот, лжец пытается «включить актёра» и изображает чрезмерные эмоции — плачет не там, где нужно, или смеётся, когда ситуация явно несмешная.
Представьте допрос по трагическому делу. Следователь спрашивает:
— Что вы почувствовали, когда это произошло?
Честный человек тяжело вздыхает, голос дрожит:
— Это было ужасно… у меня до сих пор перед глазами стоит…
А лжец спокойно, без тени переживания, отчеканивает:
— Я испытал глубокую скорбь.
И становится ясно: одно — живое чувство, другое — заученная строчка из школьного сочинения.
Правда, и тут не всё так просто. У каждого человека есть свои особенности — темперамент, воспитание, культурные традиции. Кто-то по природе своей сдержан и говорит сухо даже о самых тяжёлых вещах. Поэтому невербальные признаки нужно рассматривать осторожно и всегда в совокупности с другими сигналами.
Психофизиологический уровень диагностики лжи — это когда в дело вступает не только глаз наблюдателя, но и хитрая техника, которая «подслушивает» работу организма. Дело в том, что внутренние органы под контролем воли не стоят: вы можете сколько угодно натягивать улыбку и уверять, что невиновны, но сердце всё равно начнёт биться быстрее, дыхание собьётся, а ладони вспотеют так, будто вас посадили в баню.
На этом и основан метод полиграфа, который в народе любят называть «детектором лжи». На самом деле это не коробка с кнопкой «врет/не врет», а прибор, фиксирующий десятки физиологических параметров: давление, пульс, дыхание, потоотделение, электрическую активность кожи и даже работу мозга. Человеку задают вопросы, а аппарат записывает малейшие изменения.
Логика проста: наша память — как жёсткий диск, она хранит всё, даже то, что мы очень хотели бы стереть. Любое участие в преступлении оставляет эмоциональный след. И стоит «потрогать» этот след вопросом, пусть даже завуалированным, тело моментально реагирует. Слово «нож» или «подъезд» может вызвать скачок давления или учащённое сердцебиение у того, кто действительно имел к событию отношение.
Процесс выглядит примерно так: испытуемому задают нейтральные вопросы («Ваше имя Иванов?» «Сегодня четверг?»), чтобы замерить базовые показатели. Затем переходят к контрольным («Вы когда-нибудь бывали в доме №14?»). И вот если у человека ноги в ту же секунду начинают трястись, дыхание сбивается, а ладони потеют так, будто он только что пробежал марафон, — значит, вопрос оказался «больным».
Здесь важно одно «но». Контрольные вопросы не могут быть прямыми. Если спросить: «Это вы убили старуху-процентщицу?», — резкая реакция будет у любого, даже у того, кто в жизни мухи не обидел. Просто потому, что вопрос звучит слишком страшно и провокационно. Поэтому правильные вопросы маскируют, подбирают так, чтобы они вроде были обычными, но в то же время касались деталей события.
Таким образом, полиграф фиксирует не саму ложь, а физиологическую бурю, которая сопровождает её. И если у человека во время разговора вдруг участилось сердцебиение, давление прыгнуло вверх, дыхание стало рваным, а на лбу проступил пот — это не всегда значит, что он лжёт. Но уж точно значит, что вопрос его задел.
В следующей главе мы подробнее поговорим о том, как устроен полиграф, почему его не стоит считать магическим «радаром правды» и как он реально используется в практике правоохранителей.
Интересно, что методику выявления скрываемых обстоятельств можно применять и без всякого полиграфа. Конечно, аппарат удобен — он рисует графики, цифры и кривые, а вам остаётся лишь их интерпретировать. Но если прибора под рукой нет, то его вполне может заменить ваш собственный «детектор» — внимательные глаза и наблюдательность.

Правило простое: посадите собеседника напротив себя, в хорошо освещённом месте, так чтобы было видно всё тело — от лица до самых ботинок. Дальше действуйте по тому же принципу: чередуйте нейтральные и контрольные вопросы и смотрите, как реагирует человек.
Физиология редко врёт. Чуть более резкий вопрос — и на лице появляется румянец или, наоборот, смертельная бледность. Лоб покрывается испариной, дыхание сбивается, зрачки расширяются, как у испуганного кота. Иногда человек начинает подрагивать, словно его ударил ток, или сжимает пальцы в кулак, не замечая этого. Все эти «маленькие катастрофы организма» могут быть сигналами: вопрос задел за живое, а значит, человек имеет отношение к событию, даже если словами он уверяет в обратном.
Да, без полиграфа это сложнее. Тут нет красивых графиков, где пики и падения говорят сами за себя. Но зато есть живая реакция, которую опытный глаз заметит. С практикой такие наблюдения становятся настоящим дополнительным инструментом в арсенале следователя.
И в этом, пожалуй, есть даже своя романтика: никакой техники, только вы, собеседник и его собственное тело, которое, как ни старайся, всё равно выдаст правду.
Разумеется, психофизиологические методы — вещь полезная, но относиться к ним как к магическому «радару правды» было бы наивно. Они показывают сигналы организма, но эти сигналы не всегда однозначно указывают на ложь. Человек может вспотеть не только потому, что обманывает, но и потому что ему жарко, или он просто боится следователя с суровым взглядом. А учащённое сердцебиение иногда говорит вовсе не о вине, а о том, что испытуемый с утра перебрал кофе.
Вот почему такие методы не могут быть единственным доказательством. Они лишь добавляют штрихи к картине, но не рисуют её целиком. И использовать их нужно осторожно, понимая, что возможны ложные срабатывания и ошибки.
Есть и ещё один важный момент — этика. Когда речь идёт о вмешательстве в личное пространство человека, надо помнить о его правах и свободах. Полиграф — не игрушка, а серьёзный инструмент, и применять его следует так, чтобы не превратить процесс в нарушение человеческого достоинства.
Тем не менее, полностью отмахиваться от психофизиологических методов было бы глупо. В сочетании с наблюдением за речью и невербальным поведением они позволяют создать более полную, объёмную картину. И в руках опытного специалиста это уже не набор случайных пульсаций и вспотевших ладоней, а ещё один инструмент в большой следственной палитре.
Рекомендации по поимке лжеца. В завершение разговора о борьбе с ложью хочется дать несколько советов, которые предложил известный специалист в этой области Фрай Олдрет[3]. Но мы их изложим не в духе скучной инструкции, а так, как будто это памятка для молодого следователя — «что делать, если перед вами сидит гражданин соврамши».
Будьте подозрительными. Не стоит превращаться в параноика и подозревать ложь у каждого, кто спросил дорогу или похвалил вашу рубашку. Но на допросе доверчивость — худший союзник. Если всё принимать за чистую монету, правда останется там же, где и была — под грудой лжи. Немного здорового скепсиса ещё никому не мешало.
Зондируйте. Лжец похож на жонглёра, который держит в воздухе слишком много мячей. Стоит добавить ещё парочку вопросов — и они начинают падать один за другим. Новые уточнения, повторы, переспросы сбивают вруна с ритма, и он путается в собственной легенде.
Не раскрывайте все карты.Если лжец знает, какие козыри у следователя в руках, он будет осторожен и подготовлен. Поэтому лучший ход — держать интригу. Пусть он думает: «А вдруг они уже что-то знают?» Эта неопределённость работает лучше всяких угроз.
Будьте информированы. Чем больше знаете вы сами, тем сложнее будет обманщику. Честный человек не боится уточняющих вопросов, а вот лжец, столкнувшись с фактом, о котором не знал, начинает сбиваться и искать оправдания. Хорошо подготовленный следователь — страшный сон любого сочинителя алиби.
Заставляйте повторять. Попросите человека пересказать то же самое ещё раз. И ещё раз. Лжец ненавидит повторы — память подводит, детали путаются, и тут-то начинаются огрехи. Честный же человек может рассказывать долго и даже добавлять новые подробности, потому что он заново «проживает» реальное событие.
Наблюдайте за невербаликой, но не верьте стереотипам. Популярный миф: если человек отводит взгляд — он врёт. На самом деле он мог просто вспомнить, что не выключил утюг. Потливость? Может, в кабинете душно. Стереотипы — плохой советчик. Важно смотреть на общую картину и на изменения в поведении именно этого человека.
Сравнивайте с обычным поведением. Все мы разные. Кто-то всегда говорит сухо и безэмоционально, а кто-то жестикулирует, даже когда описывает поход в магазин. Поэтому лучше всего знать, как человек ведёт себя в нормальных условиях. Тогда любое отклонение — сигнал.
Впрочем, все эти советы — не волшебная палочка. Они лишь повышают шансы заметить ложь. И помнить нужно одно: каждый врёт по-своему. Нет универсального рецепта. Ложь бывает холодной и эмоционально бедной, а бывает чрезмерно театральной. Бывает робкой, а бывает наглой и самоуверенной. Именно поэтому искусство разоблачения лжи всегда будет напоминать не сухую науку, а игру с живыми людьми — непредсказуемыми, противоречивыми и удивительно изобретательными.
Итак, мы убедились: ложь — это не просто случайная прихоть, а целая индустрия, в которой каждый считает себя мастером. Одни врут ради спасения, другие ради выгоды, третьи ради удовольствия. Но у всех у них одна беда — тело, голос и память постоянно подводят, выдавая то, что рот так тщательно старается скрыть.
Правоохранителю же остаётся лишь быть внимательным дирижёром этого «оркестра неправды» — слушать, как звучит голос, наблюдать, какие партии играют руки и ноги, и вовремя подмечать фальшивые ноты.
И если гражданину соврамши кажется, что он сочинил блестящую симфонию лжи, то опытный следователь обычно слышит в ней всего лишь фальшивое «пиу-пиу» детской дудочки.
Вывод прост: ложь — это занятие тяжёлое, утомительное и в конечном счёте неблагодарное. А правда, как ни странно, имеет одно неоспоримое преимущество: её не нужно запоминать.
[1] Олейник А. Н. Психологические средства деятельности следователя в ситуациях конфликтов на предварительном следствии: дис. ... канд. юрид. наук. М., 1993.
[2] Freud S. Bruchstücke einer Hysterie-Analyse, 1905.
[3] Фрай Олдерт. Ложь. Три способа выявления. Как читать мысли лжеца, как обмануть детектор лжи. М., 2006.




